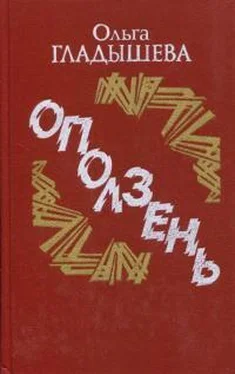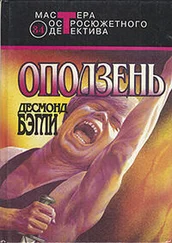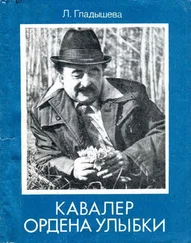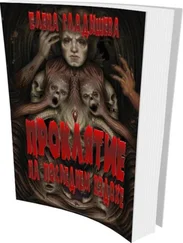Все было чужим, непривычным, враждебным; и широкоскулые лица с узкими глазами, с приподнятыми к вискам бровями встречавшихся им старателей, и пышный, багряный цвет рододендронов, и высокие кусты продолговатой жимолости, росшей возле ключей и речек, и даже шиповник, звавшийся по-местному шитшика. Изредка только что-то позабытой радостью отзывалось в ней, когда она видела какую-нибудь простенькую горечавку с голубыми и белыми цветами или лилово-розовый кустик шалфея. Угнетал душный накомарник, сквозь который угрюмый лес смотрелся еще мрачней, молчаливость спутников, отсутствие птичьих голосов, а главное, бессмысленно-долгий путь, предпринятый мужем.
Все было безразлично: его любовь, его отчаяние, попытки спасти ее. Нет, жизнь никак не давала расправить крылышки. Там, где бы крылышкам расти, в боках, покалывало. Жар по вечерам наплывал волнами. Мокрая от слабости, валилась она на сено, устланное попонами и тонкими простынями, содрогаясь от внутренней муки, от кашля, от одиночества.
Никому не смогла бы она объяснить неизбывный страх, поселившийся в ней. Будто жил в ней кто-то отдельный, жестокий, разрушающий. «Это болезнь, — твердила она, — я умираю». Звезды печально мигали ей сквозь полог ветвей. Ни шорохи таежные не пугали, ни ночные непонятные крики — только то, что хрипело в груди, душило, томило печалью.
Махнув рукой на врачей, возил жену по тайге Александр Николаевич в поисках тайного снадобья, коричневого, на человечка похожего, корешка. Оставить ее в Благовещенске было свыше его сил. К тому же тлела еще надежда на целебный таежный воздух, на какое-нибудь чудо. Но никакого чуда не происходило.
Под видом инспекционной поездки, нарочно им затеянной, перебирались они с прииска на прииск. Каждый раз муж кого-то уговаривал, кого-то подолгу ждал, предлагал деньги, а уезжали ни с чем.
Никогда раньше она не задумывалась, откуда берется, как добывается то, что таинственно мерцало, лоснилось, вспыхивало в витринах петроградских и екатеринбургских ювелиров: все эти медальоны, часы, браслеты, табакерки из тускло-желтого с зеленоватым отливом металла. Она не сразу могла и понять, что тут делается на приисках, отличающихся друг от друга только тем, что одни представляли собой чуть ли не городок в миниатюре, с аккуратными, порой двухэтажными домами, с ажурными деревянными вышками и мезонинами, другие же — беспорядочное скопление ветхих строений с крохотными оконцами, с загаженной вокруг землей. На террасах по краям оврагов и берегам речек рыли лопатами рабочие, чтоб добраться до золотосодержащего слоя. Кася поверить не могла, что они до чего-нибудь докопаются, и отрытые канавы казались ей бесполезно нанесенными земле ранами. С упорством муравьев крошечные издалека фигурки копошились, сгибаясь и распрямляясь, начиная свое копание часов с четырех-пяти утра и заканчивая к заходу солнца, когда туман уже крался по лощинам. С аккуратно разделанных уступов отколотая и раздробленная порода погружалась в таратайки, и ее везли к золотопромывальной машине, внушавшей Касе настоящий ужас своим грохотом. Усеченный конус, сделанный из толстых листов кубового железа и открытый с обоих концов, был укреплен на оси с насаженными на нее железными гребнями. В конус, который все называли почему-то бочкой, засовывались кожаные рукава с наконечниками. По рукавам с силой шла вода, которую качала из реки помпа. Ось со скрежетом начинала вращаться: куски породы дробились о железные гребни, разрыхлялись, струи отмывали, отделяли глину и ил от песков, — и крупинки золота с мелким песком проваливались в дыры, устроенные в шахматном порядке в конусе, падали на длинную наклонную плоскость деревянного шлюза. Там двухвершковые поперечные брусья задерживали, осаждали золото, а ил и размытая глина уносились непрерывной струей воды дальше, в особые люки, откуда пустую породу вывозили уже подальше, в отвалы. В конце шлюза были постланы полосы грубого сукна, рогожки: иногда тяжело поблескивали желобки, наполненные ртутью. Мокрое сукно и рогожа предназначались, чтобы ловить мелкие крупинки золота, а ртуть — даже и самые мельчайшие. Тут особо бдительно, особо нервически наблюдали десятники и мастера, потому что на отвальной вывозке работали самые бросовые, самые пропащие из пестрого рудничного люда. Какая-то рвань на плечах, любопытные взгляды на бабу в седле, пересмеивания…
Располагались промывальные машины на открытых местах, среди пологих, хорошо просматривающихся холмов; головную боль вызывал вой бочки, шум воды по шлюзу, чмоканье помпы и нескончаемый колесный скрип вереницы подвод. Хотелось уж поскорей углубиться в тайгу, в ее духоту и немотство.
Читать дальше