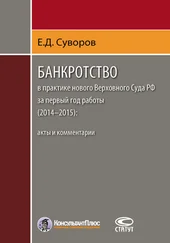Как она легко все делала! Будто сами собой на столе появились ложки, вилки, стаканы… Сказка продолжалась: алюминиевые ложки и вилки казались мне серебряными, стеклянные стаканы — хрустальными, старинный самовар — из чистого золота…
— При бабушке он всегда блестел, — сказала Лиля, неизвестно когда переодевшаяся в платье с короткими рукавами. — Теперь мы чайник кипятим. А самовар — по праздникам. Я вообще-то с бабушкой согласна: из самовара чай вкуснее. И наливать из него интереснее.
Лиля лучинками разожгла самовар возле русской печи, бросила в него несколько больших, погасших углей, подхватила, как маленького ребенка под мышки, выбежала на крыльцо, спустилась по ступенькам, поставила на траву — так, чтобы его хорошо было видно из окна, и чуть не бегом исчезла на огороде. Мне было приятно, что Лиля делает все так, будто я довожусь ей родственником, которого она долго не видела и в первую минуту даже не узнала.
В том, что мы с ней ни разу не встречались, было какое-то недоразумение…
Я с наслаждением вдыхал слабый, исчезающий запах дыма, оставленного разожженным самоваром, все больше чему-то радовался и думал: «Лиля меня хорошо встречает, а там время покажет: полюбит — буду самым счастливым человеком, не полюбит — восприму как должное, — не могут же все быть самыми счастливыми…»
Я посмотрел в окна, и в каждом из них был виден лес, близко подступавший к дому, и представил, как в бурю или в сильный ветер гудят и раскачиваются деревья, как огромные тени то появляются, то исчезают на полу, на стенах, на потолке… И на миг Совкин дом показался мне маленькой хрупкой лодчонкой, которую в шторм океанские волны бросают как попало, и в лодке — ни одного мужчины, и некому подбодрить женщин, не хватает крепкой мужской руки… Я с сомнением взглянул на свои руки, сжал и разжал правую и почувствовал, как мускулы мои наливаются силой, и мне захотелось, чтобы скорее наступил покос. Косить я умел и любил. Грести сено и складывать его в копны, а потом в зарод было для меня не работой, а праздником! И если не удавалось приехать домой, то я косил сено у кого-нибудь возле города бесплатно. Не брать же деньги за работу, от которой делаешься моложе и сильнее!
Двери в доме были открыты, я услышал Лилину песню, звуки которой оборвались, когда она поднималась по крыльцу.
Лиля вошла радостная, мне кажется, про себя она еще продолжала петь, но я не был уверен, что ее песня имеет хоть какое-нибудь отношение ко мне. И мне все равно было хорошо. Она положила на стол только что сорванные, пахнущие солнцем и ночью молоденькие огурцы и горсть зеленого лука. Сало в маленькой веселой тарелке, нарезанное маленькими кусочками, и в большой — белый-белый домашний хлеб еще раньше появились на столе. И синяя, с отпотевшими боками голубика в эмалированной чашке, и коричневый глиняный кувшин с холодным молоком, принесенный из погреба. И вдруг неожиданно, как и все, что она делала, Лиля остановилась, оглядела стол — не забыла ли чего поставить? — убедилась, что ничего не забыла, первая села и пригласила меня.
Но чем внимательнее она была ко мне, тем как будто дальше я отодвигался от нее…
«Она всех так встречает, ко всем приветлива…»
Я медленно протянул руку, взял хлеб — и сразу же комнату залила тихая, такая знакомая и вечно новая музыка, идущая издалека, — это солнце, выйдя из-за сосен, осветило стол и нас с Лилей. Я разрезал самый лучший огурец на две длинные половинки и одну подал Лиле, весело наблюдавшей за мной. Думал, она откажется, проговорив что-нибудь вроде этого: «Ах, какие нежности!» — или наградит меня насмешливой улыбкой, но она взяла, глаза ее блеснули. Ел я медленно, это у меня всегда так, даже если я буду стараться, у меня все равно получится медленно, — и все боялся, что обед скоро кончится и будет ли потом все так же хорошо, как сейчас. Лиля, опередив меня, разрезала новый огурец и одну половинку подала мне. Или ей было приятно это сделать, или она хотела быть со мной как бы в расчете? До чего только не додумаешься, когда нет уверенности в себе! Но почему я прибедняюсь? Все-то у меня со сложностями: я их не хочу и сам же иду им навстречу…
И вот, пока я таким образом рассуждал, то есть медленно ел да на Лилю взглядывал, она меня, видно, хорошо поняла и сказала:
— Мне бы, Николай, поговорить с вашим отцом, а вам — с моей мамой.
Сказала с такой ясностью во взгляде, с такой доверчивостью и полностью меня обезоружила.
— Разве мы не говорим? — упавшим голосом отвечал я.
Читать дальше
![Евгений Суворов Голос [сборник] обложка книги](/books/388366/evgenij-suvorov-golos-sbornik-cover.webp)





![Дина Рубина - Единственный голос [сборник litres]](/books/400062/dina-rubina-edinstvennyj-golos-sbornik-litres-thumb.webp)
![Евгений Рудашевский - Голос крови [litres]](/books/410352/evgenij-rudashevskij-golos-krovi-litres-thumb.webp)