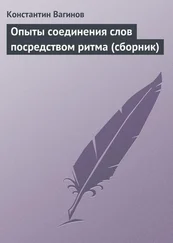Погода, окончательно освободившаяся от ожидания, может совсем запутаться. Она может для вида замереть в зените своего сезона, ведь еще не один день будет длиться осень, а потом, гонимая ветром, — неожиданно броситься в круговой вихрь, будто это не погода, а пыль на дороге; а может, как мрак, затаившийся по углам, заглядывать в комнаты и коридоры или вдруг замереть удлиненными тенями от кустов и деревьев, скованных скорбью по тлению еще совсем недавно сочных зеленых листьев, которые гниют сейчас в земле у своих корней. Погода может совсем запутаться и, лишенная конечной точки, оправдывающей ее движение вперед, совпасть с произволом времени или с ритмом заката в море, глотающем солнце, или восхода, выплевывающего его из моря, с навязчивым порядком, при котором хаос предрешен, обретая приют в часах времени, чтобы перенестись поуютнее в часы в холле, в равномерно отсчитываемых секундах которых даже не слышно гонга, созывающего всех в столовую. Гонг не звучит в коридорах, он не проникает через стены комнат и не будит спящих, сонных, забывчивых, запутавшихся, сытых и голодных, поглощенных разговором, скучающих, читающих книги, отчаявшихся, заколдованных, притихших в созерцании моря или звезд, вдыхающих, выдыхающих, темнота «снаружи» наступает, но гонг не звучит, слух напрягается в часы привычного звука, и его отсутствие вдруг оказывается во всем не безразличным, напротив — превращается в верный признак времен, орошающих землю, как метеоритный дождь, распадом своих мгновений. И когда погода остается единственной тканью времени, недоумение начинает разъедать ткань души.
Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева?
(Иов, 38:8)
Души растревожены, картина уже другая. Поменялся тон, тональность, о, как бы я описала ее, думает про себя Анастасия, которая уже ничего не может описать или еще ничего не может описать, но произносит про себя и «о» и «бы», словно ей еще предстоит уйти от серо-белесого разочарования, которое проползло в ее душу — невидимое, потому что невидимы сами души. Однако разочарование, даже невидимое, имеет и цвет, и форму, и образ, оно может явиться в виде тени, продолжает думать Анастасия, и ее мысли отражаются в панораме скалистой линии берега, нарисованной изгибами моря — а вот и лодка во фьорде, она хорошо видна на фоне пейзажа, освещенная с самой верхушки неба, а Ада в темноте даже видела ее тень, склонившуюся в сторону залива, тень отбросила свою лодку, крепко вбив ее в скалу, чтобы дать образ разочарованию,
продолжает размышлять Анастасия и в своих мыслях описывать вид, пока идет вдоль ромбовидной ограды с заостренными шипами, сквозь которую картина, расстилающаяся перед ее взглядом, кажется огромной, протянувшейся в своей собственной бесконечности до горизонта и в то же время — рассеченной на ромбы, как и ее мысли — хаотичные, разорванные, частичные, раздробленные на отдельные слова и имена, в одном ромбе — частица спокойного моря, в другом — пена, в третьем — Аглая, Ада, Арсения, в четвертом — лодка, в пятом — опущенные вниз глаза сестры Евдокии, в шестом — тень, желтые листы, разбросанные ветром, Ханна… они перестают звучать, разлетаются, и только образ разочарования, угнездившийся в потоке мыслей, привлекает отдельные детали, разбирает их, нанизывая на свой луч, как солнце, объединяющее раздробленные детали панорамы…
но почему разочарование, какое разочарование,
она идет, поглощенная словом, вбитым в сознание назойливо, как риф, о который разбивается каждая волна,
почему разочарование, как раз наоборот,
наоборот, напротив, раз в ее здоровой руке — документ об освобождении, а он даже бегство превращает в излишество. Время от времени она останавливается, вновь и вновь перелистывает его, придерживая больной рукой, на первой страничке — ее имя, Анастасия, здесь пользуются только именами, на следующей — эпикриз: тяжелое сотрясение мозга, легкая кома, серьезных повреждений нет, сломанные ребра, но рука цела, только потерян мизинец — и куда же он потерялся? — может быть, в вязи непонятных латинских наименований, стилизовавших события до неузнаваемости, а в самом конце — еще один лист, последний, где доктор собственноручно написал одно-единственное слово, непоправимое.
Почему оно непоправимое, причем двойное?
Сказано только то, что сказано, до обидного мало, фатально мало… как-то безразлично… и ничего больше. Подпись. Печать в форме ромба. Это — печать на ее жизнь, на ее мысли. Они останавливаются, бьются о риф, и остается лишь картина: пожелтевшие листья деревьев, увядающая трава, помятые цветы на аллеях, а за оградой — натянутая, ровная поверхность моря, а наверху — солнце. Ровно полдень. Теней нет. Миг, когда всё предоставлено себе, всё — такое, как оно есть. У меня нет тени. Глаза блуждают по рельефу скал — вот фьорд, лодка, пристроившаяся между двух камней. Совершенно голая реальность. Стоп-кадр. Она остановилась у калитки, по-прежнему открытой настежь, поэтому и ромбы, расчерчивающие панораму, здесь исчезли, они стилизованы, все до единого, на листе бумаги, но бумага — вещь непрочная, ее можно порвать, смять, сжевать, проглотить, бросить в море…
Читать дальше