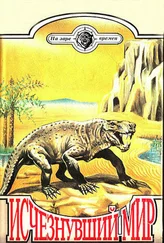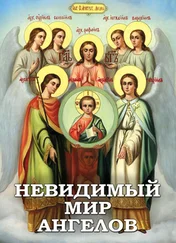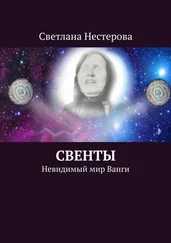В числе немногих гостей наш командир пригласил моих родителей в отдельную комнату. Там он с удовольствием пел и декламировал стихи.
Теперь родителей уже нет в живых, и я могу признаться: они дали тогда обещание, о невыполнимости которого знали заранее. Сделали они это ради меня. Несколько офицеров и старшин в нашей части не имели софийской прописки (часть стояла под Софией, на четвертом километре). Моим родителям очень учтиво был задан вопрос, не могут ли они помочь с пропиской. Моя мать, чья респектабельная шуба внушала веру в возможности и связи нашей семьи, сообразила сказать «да». Ее обещание заставило заинтересованных относиться ко мне благосклонно, но я вскоре попал в госпиталь. Прошло восемь месяцев, а офицеры и старшины прописки все еще не получили. К чести моего отца, скажу, что он делал какие-то усилия, но разве мог обыкновенный юрисконсульт устроить прописку для семи-восьми человек? Как видно, родители мои до того ловко раздули огонь, что и через восемь месяцев отношение ко мне по-прежнему осталось благосклонным…
Я уже говорил, что боли у меня прошли и я даже о них забыл. Режим и подвижная жизнь благотворно отразились на моем здоровье. Я пополнел, цвет лица у меня стал другим, словом — я возмужал. Я наконец узнал, что такое «волчий аппетит».
Обычно свидания происходили под открытым небом, но было и специальное помещение для этого. Там я всегда превращался в аттракцион для других солдат и их близких. Родители и бабушка приносили мне огромную коробку, полную сластей. Часа за два я успевал съесть очень много. А все трое созерцали меня с умилением. Поразительно все-таки невежество людей в вопросах питания. Правда, психологическим фактором тоже пренебрегать не стоит: радость, которую я испытывал, пока ел эти сласти, до известной степени нейтрализовывала вред, приносимый сахаром.
Я все еще не мог сделать на турнике угол, несмотря на свое возмужание. Прошло несколько месяцев. У всех остальных уже получалось. Я был единственным, кто так и не смог сделать это упражнение. Старшины утверждали, что не видели еще такого солдата, которому бы в конце концов это не удалось. Такие разговоры меня отнюдь не подбадривали. Напротив, они действовали подавляюще. В истории солдатской гимнастики я так и остался уникальным случаем. Зато я был первым в радиотехнике и на политзанятиях.
Люди, которые чего-то не умеют, инстинктивно сближаются. И ко мне, физически самому непригодному, прилепился паренек, крестьянин из-под Софии, которому непосилен был мыслительный процесс. Он спал на всех теоретических занятиях. У этого паренька были жабьи веки, и он немножко ими спекулировал. Когда его ругали, он виновато моргал и лицо его выражало полное отсутствие ума. Это вызывало смех, и ему все прощалось. Я старался хоть чем-то помочь этому пареньку. А однажды, когда мне велели вымыть пол в учебном помещении, он пришел и вымыл его вместо меня. Мои родители, типичные интеллигенты, не надеялись, что при столкновении с суровой жизнью сына спасет его разум, а верили в опыт и интуицию этого моего приятеля. Именно потому, что он был проще всех. Это в их понимании означало практичность. Они всячески его ласкали, приносили ему угощения и все напоминали, чтобы он обо мне заботился. Их усилия выглядели, конечно, смешно. Все это было просто успокаивающей терапией для них самих.
Память разделяет мою солдатскую жизнь на три периода: казармы на четвертом километре, госпиталь и Копривштице (туда впоследствии была переброшена наша часть). Второй и третий периоды более колоритны, но я все же не могу обойти и начало, хотя все, что случилось со мной тогда, случалось и со многими другими. И все-таки даже эти события не лишены интереса, ведь они воспринимаются людьми в значительной степени индивидуально.
Арест, например, вещь обычная, но каждый воспринимает и переживает это по-своему.
Это случилось, кажется, в марте. За спиной у меня осталось пять месяцев службы. Была осень, холодная, снежная. Как-то ночью я стоял на посту у гаража с радиорелейными машинами. Я постелил себе соломы, лег на обледеневшую землю и замер, прислушиваясь к звукам вокруг. Я это делал и раньше. Если бы я позволил себе такую выходку, будучи штатским, я бы наверняка попал в больницу. Однако солдатская жизнь так психологически мобилизует, что тело превращается в камень, и ты забываешь о здоровье — внутренне ты всегда готов к прыжку. Это до какой-то степени оправдывает презрение к «гнилым штатским»… Потом я встал и немного размялся. Перед гаражом, что был напротив, в свете электрической лампочки я увидел силуэт, показавшийся мне знакомым. Минуту спустя я был уже там и весело болтал с парнем из нашей 8-й гимназии. Мы служили в одной части, но в разных ротах. И так случилось, что за пять месяцев ни разу не встретились. Мое блаженство усугублялось еще и тем, что мы разговаривали о наших одноклассниках. Ведь обычно в часы ночных вахт я испытывал чувство полного одиночества и заброшенности. И не так обессиливала меня постоянная жестокая военная дисциплина, как огни Софии, на которые приходилось мне теперь глядеть издали, как человеку постороннему, чужому. Для чувства одиночества были две причины: я знал, во-первых, что дома спят и никто, совсем никто, в этот момент не думает обо мне. И во-вторых, у меня еще не было девушки, которой я мог бы писать. Катастрофическая стыдливость, заложенная воспитанием, не позволяла мне назначать девушкам свидания, не говоря уже о поцелуях или о чем-нибудь большем. Стыдливость была позором, который я всячески скрывал в период солдатской службы. Некоторые деревенские парни из нашей казармы были женаты, другие уже имели кое-какой сексуальный опыт. В жизни невинного юноши есть что-то абсурдное: женщины ему нравятся, иногда и он нравится женщинам, однако стеснительность парализует его и лишает многого из того, что заложено в человека природой.
Читать дальше