Разумеется, знание объективировано, но еще и роздано. Не сконцентрировано в одной точке. Как я сказал, мы жили в метрическом пространстве со своими центрами, концентрациями. В школе, классе, кампусе, аудитории собирались люди, учащиеся и преподаватели; в библиотеке собирались книги, в лаборатории – приборы… Теперь знание – референции, тексты, словари, да хоть обсерватории! – можно найти везде, в том числе дома и, того лучше, где бы вы ни были. Откуда угодно вы можете связаться с коллегами или учениками, и они вам с легкостью ответят.
Старое пространство концентраций – то, где я говорю, а вы меня слушаете: только зачем это? – разжижается, расширяется. Мы живем, повторюсь, в пространстве непосредственного соседства, причем в пространстве дистрибутивном. Я могу говорить с вами из дома или еще откуда-то, а вы у себя дома или еще где-то меня услышите. Так что мы здесь делаем?
И не говорите, что ученику не хватает познавательных функций, позволяющих усваивать раздаваемое таким образом знание: его познавательные функции трансформируются вместе с основой и ею самой. Под влиянием письма и книгопечатания память, например, мутировала настолько, что уже Монтень ценил ясную голову выше напичканной науками. И вот эта голова пережила очередную мутацию.
Греки изобрели педагогику ( пайдейю ) в период появления и распространения письменности; педагогика изменилась в эпоху Возрождения, с изобретением книгопечатания; подобным же образом она кардинально меняется под воздействием новых технологий, новизна которых – только один из десятка-другого факторов, которые я уже назвал и мог бы перечислить снова.
Решительные перемены в образовании, которые постепенно заявляют о себе во всем мире и во всех его обветшалых институтах, затрагивая далеко не только образование как таковое, но и труд, промышленность, здравоохранение, право и политику, словом, всю совокупность наших институтов, ощущаются нами как насущная потребность, но все еще остаются для нас далекими.
Возможно, дело в том, что еще не вышли на пенсию те, кто тащится на полпути между последними стадиями прошлого, спеша провести реформы по моделям, которые давным-давно устарели.
Вот уже полвека я преподаю едва ли не на всех широтах мира, и, всюду, как и в собственной стране, натыкаясь на трещину, о которой было сказано выше, я пережил эти реформы на собственной шкуре. Они – словно гипс на протезе или заплаты на лохмотьях. А ведь под гипсом даже искусственная нога мертвеет, как и залатанная ткань только сильнее рвется.
Вот уже несколько десятилетий мы живем в период, сопоставимый с зарождением пайдейи , когда греки научились письму и доказательству, и с Возрождением, когда возникло книгопечатание и воцарилась книга. Вместе с тем наша эпоха уникальна, ибо одновременно с мутацией технологий происходит метаморфоза тела, меняются рождение и смерть, болезнь и исцеление, занятия, пространство, жизнь, бытие-в-мире.
Эти мутации подталкивают нас к изобретению чего-то невероятного, не укладывающегося в старые рамки, которые все еще регулируют наше поведение, работу наших массмедиа, ход осуществления наших проектов, увязших в обществе спектакля. По-моему, наши институты светятся тем же тусклым сиянием, какое, по сведениям астрономов, излучают давно потухшие созвездия.
Почему же это невероятное никак не возникнет? Боюсь, тут не обошлось без вины философов – а ведь я и сам один из них, – людей, призванных предвидеть, какие знания и практики будут востребованы в будущем. Мне кажется, они не справились со своей задачей – погрязнув в сиюминутной политике, проглядели современность.
Если бы мне предстояло обрисовать коллективный портрет взрослых, включая себя самого, этот портрет получился бы не слишком лестным.
Хотел бы я быть ровесником Девочки с пальчик и ее приятелей: в восемнадцать все еще можно переделать, придумать заново.
Надеюсь, что жизнь мне отпустит еще некоторое время, и я сумею поработать вместе с этими ребятами, которым посвятил свою жизнь, всегда испытывая к ним почтительную привязанность.
Иаков Ворагинский в своей «Золотой легенде» рассказывает, что во времена гонений на христиан, учиненных императором Домицианом, в Лютеции произошло чудо. Римская армия схватила Дионисия, которого первые христиане Парижа избрали епископом. Он был брошен в тюрьму, подвергнут пытке на острове Сите и приговорен к отсечению головы на холме, который впоследствии получил название Монмартр.
Читать дальше
![Мишель Серр Девочка с пальчик [litres] обложка книги](/books/386881/mishel-serr-devochka-s-palchik-litres-cover.webp)
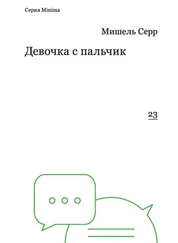
![Мишель Монтень - Путевой дневник. Путешествие Мишеля де Монтеня в Германию и Италию [litres]](/books/394936/mishel-monten-putevoj-dnevnik-puteshestvie-mishelya-thumb.webp)
![Дарёна Хэйл - Девочка с самокатом [litres]](/books/395215/darena-hejl-devochka-s-samokatom-litres-thumb.webp)
![Мишель Дуглас - Роман на ее условиях [litres]](/books/398258/mishel-duglas-roman-na-ee-usloviyah-litres-thumb.webp)
![Мишель Смарт - Эксклюзивное соблазнение [litres]](/books/401319/mishel-smart-eksklyuzivnoe-soblaznenie-litres-thumb.webp)
![Мишель Пейвер - Брат мой Волк [litres]](/books/402214/mishel-pejver-brat-moj-volk-litres-thumb.webp)
![Мишель Кондер - Судьбе вопреки [litres]](/books/405910/mishel-konder-sudbe-vopreki-litres-thumb.webp)
![Мишель Дуглас - Не уйти от соблазна [litres]](/books/405990/mishel-duglas-ne-ujti-ot-soblazna-litres-thumb.webp)
![Мишель Смарт - Неуловимое совершенство [litres]](/books/417071/mishel-smart-neulovimoe-sovershenstvo-litres-thumb.webp)
![Мишель Грирсон - Становясь Лейдой [litres]](/books/429986/mishel-grirson-stanovyas-lejdoj-litres-thumb.webp)
![Мишель Бюсси - Черные кувшинки [litres]](/books/432703/mishel-byussi-chernye-kuvshinki-litres-thumb.webp)
![Мишель Пейвер - Охота на духов [litres]](/books/438189/mishel-pejver-ohota-na-duhov-litres-thumb.webp)