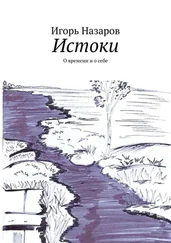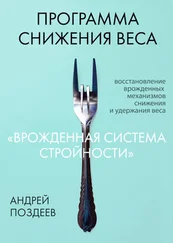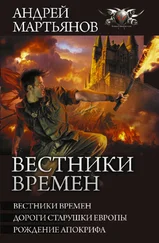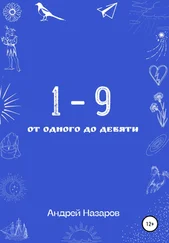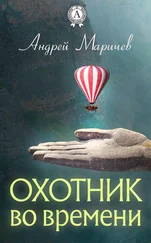Как вдруг прибежали седые волхвы,
К тому же разя перегаром, —
деталь, обличающая в современных кудесниках деклассированных личностей, пьющих разную дрянь и занюхивающих мануфактурой.
Эта сомнительная компания, окружившая князя, дословно повторяет предсказание волхва 1822 года: «Примешь ты смерть от коня своего!».
Князь образца 1966 года, лишенный как легитимности, так и рефлексии, решительно применяет к волхвам административное взыскание:
И долго дружина топтала волхвов
Своими гнедыми конями.
Всевластию дружин мы обязаны рождением жанра скоморошьего, нарочитой примитивизацией стиля («злая гадюка кусила его») и самой манерой исполнения Высоцким «Песни о вещем Олеге», манерой, которая не столько пародирует Пушкина, сколько характеризует современность, описывая ее как самые мрачные времена бесправия. Одной лексической деталью Высоцкий переносит предание в современность, а князя — из рыцарских времен во времена преодоления волюнтаризма в области внутренней политики. Заметив, что покаравший волхвов князь «свою линию гнул, да так, что никто и не пикнул», Высоцкий высказывает предположение, что некоторое искривление партийной линии, имевшее место в недавнем прошлом, успешно преодолевается.
Предположение поэта оправдалось. Загнутая в другую сторону, партийная линия вскоре ощутимо сдавила горло разного рода предсказателям, и уже со следующего года в песнях Высоцкого появляется мотив перехваченного горла, хрипения и страха, вызванного погружением общества в духовный вакуум. «Спасите наши души, мы бредим от удушья» («SOS», 1967). Перебои с дыханием начинают ощущать различные слои общества, и представители их простодушно подписывают обращения к князю с просьбой урезонить дружину, которая гнет замечательную княжескую линию совсем не в ту сторону.
Но дружина уже подобралась в седлах, тронула своих гнедых коней — и та же неистовая страсть к жизни, что и в песнях о войне, то же гибельное напряжение, тот же отчаянный крик обозначили происходящее как кровавую бойню на заснеженном поле, облаву, «Охоту на волков» (1967).
Как всякое произведение, задевшее жизненный нерв нации, эта песня, кажется, не могла быть не написана — так мгновенно она была узнана и принята народом как его собственный опыт, как собственное метание под ружейными дулами. «…Володя Высоцкий впервые пел “Охоту на волков”, — вспоминает Ю. Любимов. — Когда он закончил, то я думал, что театр рухнет, — зал просто с ума сошел!». И не один зал, как скоро выяснилось.
Антропоморфизм песни настолько очевиден, что дошел даже до сознания «ответственного товарища», воскликнувшего в беседе с ее автором: «Да это ж про меня, про нас про всех, какие к черту волки» («Ответ на песню “Охота на волков”», 1972). На незавидное, казалось бы, место окровавленных волков претендуют, впрочем, не только партийные функционеры, но и представители чуть ли не всех социальных, политических, профессиональных и этнических групп общества.
Тема духовного бунта, определяющая внутренний строй поэзии Высоцкого, заставляет видеть в избиваемых волках носителей стихийной свободы — «детей войны, да и ежовщины», которым он посвятил столько песен. Общая память, общая причастность к поре жизни, определяющей облик поколения и давшей импульс поэзии Высоцкого, звучат в его горестном, безответном крике: «Где же ты, желтоглазое племя мое?». В общих истоках жизни находит он причину безнаказанного избиения вольных детей улицы, — в родовом запрете выбора, в материнском табу, сковывающем возможность сопротивления:
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: «Нельзя за флажки!»
2.
На всем отмеренном ему творческом пути Высоцкий настойчиво возвращается к рано определившейся судьбе своего поколения — значительной его части, преодолевшей эту наследственную покорность. Рано повзрослевшие дети войны, сверстники Высоцкого, вынесли из хлебных очередей простой и беспощадный взгляд на жизнь, научились отстаивать себя и отбились от рук своих зануженных беспросветным трудом и страхом матерей. Они ощутили войну как потрясение рабских устоев бытия, как возможность человеческого взлета — и тем приведены были к безвестной гибели, рассеяны «пылью по лучу». Со своими ножами из напильников и заточенными гвоздями им и деться было некуда, как только в колонии или лагеря, но они разорвали круговую поруку страха и подлости и потому не вышли в пионерские, комсомольские или партийные бюрократы, и погибать были заклеймены — ворами.
Читать дальше


![Андрей Мартьянов - Вестники времен - Вестники времен. Дороги старушки Европы. Рождение апокрифа [сборник litres]](/books/430811/andrej-martyanov-vestniki-vremen-vestniki-vremen-thumb.webp)