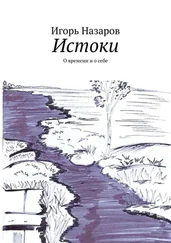И снова проступали в окнах дни без имени, а он, погребенный ими художник, свидетельствовал невозможность жизни, достигшей того, что всегда оставалось неназванным, из чего нет выхода, — и обманывал смерть, теряясь в бессловесной дурочке.
— Люблю, — впервые произнесла она свое “лю” полностью и прислушалась.
А потом повторяла, повторяла упоенно, перекладывая голову от плеча к плечу. Он заметил, как она любуется своим словом, как осмысленной радостью оживает ее улыбка, и глаз не мог отвести от того девичьего, что проступало в ее лице, от движений ожившего рта и поворота настороженной шеи. На его глазах менялось ее существо, исчезало то главное и единственное, что так жадно влекло его к ней. Он, великий мастер, безошибочно чувствовавший натуру, понял, что никогда к его дурочке не вернется то, что столь непоправимо соединило их.
Он ушел на чердак, рухнул там, закопался в тряпье.
— Ва-ва кава, — произнес он, очнувшись от поцелуя.
Но, втянув ее запах, не испытал приступа страсти, не схватил в объятия, не подмял, как во все эти безымянные дни. Когда отголосок ее ног истаял в шелесте леса, он почувствовал боль и ударил себя в то место под сердцем, где комом застряла пустота.
Агония его окончилась. Он знал, что должен успеть, и двинулся отыскивать в лесу поляну, на которой преткнулся. Там опустился в сырой мох, замер с широко раскрытыми, невидящими глазами. Поляна умирала в сумерках, поглощая, затаскивая в беспредельно черное, смывая его с земли вослед отгоревшему на ней лиловому восторгу. Последним он услышал слабые звуки — скулеж ли, повизгивание — будто рядом теплилась чужая жизнь. Он потянулся к ней, но что-то оборвалось внутри, и он повалился на бок, зависнув и покачиваясь на кусте.
А рябая девочка странно передвигалась с тяжелым бидоном и оскальзывалась на верткой тропе. Кутаясь в промокшее свое, желтое, она уносила любовь, держа ее заполненным телом, почему-то зная, что любовь нужно держать в себе именно так, специально переставляя ноги, чтобы донести, не расплескав, в свой мир, где не надо говорить. Она успела удивиться, что собаки не кидаются к ней заливисто, как всегда.
Они затаились, ее дичары. Они поняли, что она принесла в себе, — и не простили.
Утром на растерзанные останки наткнулся сторож, народ поднял, наряд подтянули. Собрали, что пришлось, в брезент, к тетке отнесли, к Тихоновне. Та, отвыв родную свою рябую дурочку, обмыла от крови и открыла тихую улыбку, запечатленную на разорванном лице.
— Сейчас выпьем — и сваливай отсюда, пока не поздно. Загадочна жизнь, подруга — никогда не знаешь, кто тебя предаст завтра. А знать — так лучше бы покончить со всем этим. Людей она других захотела!
Выпил — и вверх озноб подкатил, захлестнул, во тьму затаскивая. Небо падало, трепетала зарницей чья-то жизнь, но не удержать, не удержать…
Очнулся — женщина над ним, не разглядел, глаза застило.
— Ты кто? — спросил.
— Так я же, ты и привел.
— Ты что здесь делаешь?
— Некуда мне. Да и тебя жалею. Стонешь ты очень.
— А давно… это ты?
— Всю жизнь, кажется.
— Беги, сказал, беги отсюда, пока нас вместе не замели, слышь?
— Пусть метут, а я с тобой. До конца с тобой, сколько…
— Со мной? Да ты глянь на себя. Пьянь копеечная.…
И сам взглянул, и осекся. В накидке она сидела, строгая, как в окладе.
— Какая-то странная ты … нищенка. Не бывает таких.
— Я тебе расскажу. Мы все друг другу расскажем, правда? Не гони, не гони только.
— Да пойми ты, нас жизнь не держит, нет нас больше. И говорить не о чем.
— Ты сам будь, а остальное приложится, только поверь.
Подняться к ней хотел, но обвалилось все, забылся, забормотал, слился с чем-то, наконец, найденным, и исчез — далеко, в другом конце жизни, где ждали его.
Очнулся — а она рядом, в руках.
— Ты, милый, ты…. не помнишь?
— Уходи, сказал.
— Я все сохранила, что ты мне подарил.
— Я подарил…?!
Но тут увидел близко склоненную над ним женщину, открыл ее лицо — и дыхание перехватило.
— Господи, откуда ты мне?
Но тут звонок взорвался.
Вскочил голым, в голове плывет, едва устоял. Последним — взгляд ее поймал и изумленные, раскиданные по подушке волосы.
Пальто накинул и к окну. Рванул створ, открылся под удар мартовского ветра. Вздохнул во всю грудь — жить!
На подоконнике утвердился, взглянул мельком на пустой двор, испещренный прочернями, и в сторону себя кинул, уцепился за лестничную перекладину, только руки обожгло. Торопился, сколько мог, перебирая железо, помнил, что внизу доски начнутся, там — на руках, потом прыгать и рвать во всю силу.
Читать дальше


![Андрей Мартьянов - Вестники времен - Вестники времен. Дороги старушки Европы. Рождение апокрифа [сборник litres]](/books/430811/andrej-martyanov-vestniki-vremen-vestniki-vremen-thumb.webp)