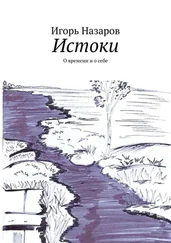Теперь сбежал на заброшенную дачу, исчез, не сказавшись, словно уже умер для всех. По пальцам пересчитал, кто вспомнит, кто искать кинется, да много их, пальцев, не нужен он стал никому, даже детям, что уютно прижились в пошлых гламурных изданиях. А он вторую неделю бродил сырым лесом, заново знакомясь с ним, в надежде, что за поворотом распахнется, собьет дыхание волшебный вид — какая-нибудь заросшая просека, внезапно раскатившийся луг, изгиб тропы, нежилая сторожка, подломившаяся на ухабе, или прозрачная березовая роща — роща, вызывавшая то молитвенное чувство, с которым он писал ее, как храм, в те времена, когда был здесь своим. Искал ту точку, с которой пейзаж отзовется в груди тревогой и ликованием, выходил к лугу, раскатывающемуся до реки, очерченной по берегу кустарником, опирался спиной на сложенные уже стога, запрокидывая голову к медленному августовскому небу, тяжело ворочающему сизыми облаками. Пусто, просторно, окутано той предобморочной красотой, что в тихий день обволакивает все осенние русские пейзажи.
Но искал он то, что лишь один мог увидеть и запечатлеть в душе, сторожил момент, когда притихший этот пейзаж вспыхнет потаенной силой, только ему доверяясь. С такого мгновения влюбленности в свою землю все и началось когда-то, за тем он и приехал. Природа открывала ему свои видения, которыми, казалось, проникаются и его кисти. Он оставался верен отражению мира, создавшего его своим художником. Верен вопреки всему и всем — что и отмщалось годами безвестности, унижений и презрительной кличкой Язычник. Но прежде заветный пейзаж возникал внезапно, иногда совсем не ко времени, а теперь он искал, искал так, что в глазах сливалось от напряжения — и не находил. Падал, как в детстве, ниц в мшистые натеки, вдыхал горьковатый дух леса, лежал, распластавшись, приникнув грудью. И слышал стук своего сердца об отчужденное, неприемлющее. Земля детства не прощала отступничества.
Возвращаясь с луга, он слегка сбился с тропы, оказавшись на небольшой оцепеневшей поляне, наблюдал, как вбирает она грозовое небо, и вдруг заметил вспыхнувший желтый всплеск, мгновенно сместивший оттенки, прозвучавший тревожной, таинственной нотой, отчего сгустились в лиловое стекающие ветви, отдалось в груди забытым восторгом. Он плюхнулся у ствола, зажмурился суеверно, переждал, как триумфатор, в предчувствии неизбежной победы. А когда снова раскрыл глаза, то чуть не взвыл.
Неверно в нем отразилось, неверно. Поклясться мог, что там, обочь кустов, мерцал желтый росплеск пижмы, волшебно осветивший поляну. Он сразу понял, что теперь не так, исчезло главное, придававшее жизнь и боль вожделенному, найденному, наконец, и внезапно пропавшему пейзажу. Встал, побродил под хлынувшим ливнем, уже не надеясь ни на что, сплюнул и ушел к себе.
Он поднялся шаткими ступенями заброшенного дома, стянул ватник и упал на лоскутное одеяло, когда-то купленное им в селе у старухи как сказочный реквизит, но лиловое затягивающее пространство, освещенное и дразнившее желтым всплеском, не оставляло и во сне.
Проснувшись, охлаждал лоб о запотевшее стекло. Шла мимо дачи по проходному его участку девочка с бидоном в том грязно-желтом, что привиделось ему вчера. Рванулся к дверям — много их, как к осаде готовились — и с крыльца окликнул спину в желтой мужской куртке. Она обернулась слегка одутловатым лицом и осталась ждать. Он узнал ее. Не пижма была тем росплеском на поляне, а она, вот эта невысокая девчушка, недостающий фрагмент в пространстве его восторга. Он положил руки ей на плечи, передохнул, опустил голову и увидел, как по ее омытым дождем резиновым сапогам светлыми тенями скользят облака, как трепещет сбоку налипший лист.
— Это ты, — крикнул, — это же ты!
Не услышав ответа, впился взглядом в выцветшие глаза на слегка припухшем лице, не имеющем возраста, и похолодел: “Да это же идиотка. Идиотка!”
Когда неловко уже стало держать ее так, он опустил руки, но, как прикованный, не смог отодвинуться в сторону.
— Ты была там, на поляне, я тебя видел.
— Ва-ва, кава, — ответило обомлевшее существо с усилием, от которого некрасиво сморщилось бесцветное конопатое лицо.
— Зачем же убежала?
— Страха…. Сама стра… — и хрипло выкашляла случайный смех. — Не лю… не лю… акромя дичар…
— Не любит? Я люблю, я, пойдем ко мне!
— Лю… меня? Лю… лю… лю?..
— Любить, конечно, буду любить, от тебя оживает все. Ты знаешь, я кто? Художник я, знаменитый, убежал от всех, теперь рисовать тебя буду, хочешь? На той поляне, в куртке твоей желтой. Ты соглашайся, тебе хорошо будет.
Читать дальше


![Андрей Мартьянов - Вестники времен - Вестники времен. Дороги старушки Европы. Рождение апокрифа [сборник litres]](/books/430811/andrej-martyanov-vestniki-vremen-vestniki-vremen-thumb.webp)