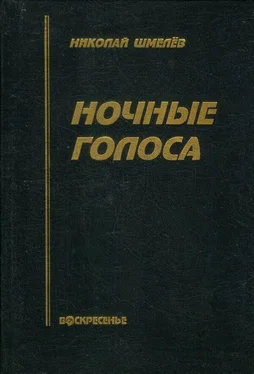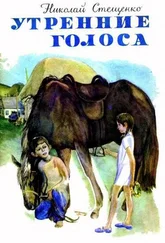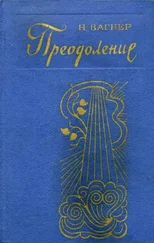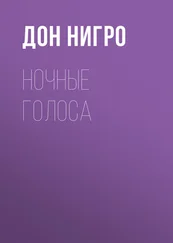Генерал путей сообщения
Удивительно, но факт: каким-то образом значительная часть старой профессуры Московского Университета — не все, конечно — сумела пережить и террор 30-х, и «московское ополчение» 1941 года, и все эти погромы и избиения конца 40-х начала 50-х годов.
Мне и моим тогдашним университетским товарищам, считаю, крупно повезло в жизни: мы еще застали на экономическом факультете таких незауряднейших людей, как душистый, церемонно вежливый, всегда всем улыбавшийся наш декан, профессор И. Д. Удальцов — секретарь, между прочим, первой партячейки Московского Университета в 1905 году, как толстый, шумный, с седой бородкой клином, вечно куда-то спешивший профессор С. К. Татур — крупнейший специалист, как теперь сказали бы, «по аудиту», бывший член ЦК партии кадетов, как необыкновенная умница, но грустный, ломаный и переломанный властью профессор политэкономии И. И. Блюмин и ряд других.
Был среди них и покойный академик Тигран Сергеевич Хачатуров, который тоже читал у нас какой-то короткий, уже не помню названия, спецкурс по конкретной экономике. Худой, подтянутый, всегда тщательно одетый, со сдержанными, изысканными манерами, немного, казалось, отстраненный от жизни, от всей этой суеты вокруг, он одной своей внешностью вызывал у многих из нас восхищение, не говоря уже о тех мудреных, но в высшей степени интересных вещах, что он с нами тогда обсуждал. Казалось, это и есть тип истинного российского интеллигента — по крайней мере, каким он должен был быть, если верить, конечно, всему, что у нас понаписано о нем.
Долго, до самого конца Тиграна Сергеевича за ним тянулась по жизни одна легенда (на самом деле не легенда, а факт — я это проверял).
Еще перед войной, молодым человеком двадцати восьми лет отроду, он защитил докторскую диссертацию по экономике транспорта. Случай по тем (да и по нынешним) временам уникальный: экономика — не математика, такое в ней бывало на моей памяти раз-другой-третий, не больше. Ничего удивительного, что его сразу же назначили тогда директором НИИ путей сообщения. Должность генеральская, а ответственность и того выше: вряд ли и до, и во время, и после войны был в советской экономике более сложный участок, чем транспорт — от транспорта, по сути дела, зависело все.
Директорствовал Тигран Сергеевич, по свидетельству многих, весьма успешно. Но и у самых удачливых людей, как известно, бывают иногда ошибки и срывы: что-то такое важное в первые послевоенные годы его Институт не предусмотрел, что-то вроде бы не так рассчитал. А курировал тогда весь транспорт в стране Лаврентий Павлович Берия, не к ночи будь помянут.
И вот вызывает Берия за этот промах директора института Т. С. Хачатурова «на ковер», к себе в кабинет на Лубянку. И с места в карьер начинает на него орать, стучать по столу кулаком, поносить его последними (естественно, матерными) словами:
— В порошок сотру, сукин сын, такой-сякой! В лагерную пыль…
По рассказам, Тигран Сергеевич сначала стоял молча, навытяжку, как и должно было тогда стоять перед столь высоким начальством. Стоял, молчал, багровел, кусал губы… пух, пух — и вдруг, зажмурившись, как рявкнет на опешившего от такой наглости Берию:
— Ты, тыть твою мать, не смей на меня орать! Я тебе не хрен собачий, а генерал путей сообщения. И потрудись говорить со мной, как положено.
Сказал — и вышел из кабинета. А приехав домой, в тот же вечер вскрыл себе вены. Спасибо, жена догадалась, вовремя взломала дверь в ванную. А то…
На счастье Тиграна Сергеевича, Берию и самого вскорости расстреляли. Обошлось! А могло бы и не обойтись. Как у Салтыкова-Щедрина: «А знаешь ли ты, щука, что такое добродетель?» Разинула щука пасть от удивления — и где тот карась? Но хотя и обошлось, видимо, поэтому и сохранил Тигран Сергеевич до конца своих дней эту дистанцию между собой и миром: мягкую, деликатную, но ощутимую для всех.
Соло на гарнизонной трубе
«В каждой луже запах океана, в каждом камне веянье пустыни», — утверждал, как известно, Н. Гумилев.
Иногда, оглядываясь назад, мне кажется: хотя бы и в микроскопических дозах, но я все испытал в жизни, что положено человеку. А что, в самом деле? Была любовь, но была и ненависть, были мгновения невероятного, немыслимого счастья, но были и периоды (причем долгие!) безысходного отчаянья и тоски, были хижины, но были и дворцы, были скрипучие, вдрызг разбитые «теплушки» на «сорок человек иль восемь лошадей», но были и международные вагоны, уносившие меня в иные, дотоле неведомые мне миры. Единственное, пожалуй, чего я не знал и не знаю до сих пор — это наркотики. Но и здесь не стоит торопиться с выводами, и здесь, наверное, все еще только впереди: надо думать, когда придет время умирать, без этого и мне не обойтись.
Читать дальше