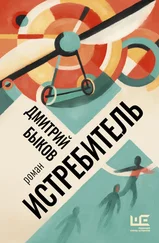Шестого декабря Ладыгин снял координаты и поразился: за полгода «Седов» описал гигантскую петлю, круг площадью в одиннадцать тысяч квадратных километров. Он стоял теперь ровно в той точке, которую Ладыгин зафиксировал в июне. То есть они двигались все время, и довольно быстро – со средней скоростью пять миль в час, ломаным путем, тринадцать раз пересекли траекторию «Фрама» и сейчас стояли ровно там же, где были летом. В этой неуклонности было что-то триумфальное. Они пережили столько смертельных рисков, провели пятнадцать партсобраний, выпустили десяток стенгазет, чуть не ушли вместе с «Ермаком», проводили «Ермак» – и все это было движением по кругу; это наводило на странные размышления и не отливалось в словах. Казалось, они прожили жизнь. В этих широтах жизнь выглядела совершенно бессмысленной и все-таки победоносной: она происходила вопреки всему, вопреки, казалось бы, законам природы. Победой было уже то, что они живы, но разве это могло быть победой само по себе? Вспомнились Ладыгину вычитанные в газете слова летчика Канделаки: «Если есть высота, я ее должен взять». Сперва Ладыгина это утешило, а потом опечалило, и весь день он ходил хмурый, но тут прилетела радиограмма о самолете, который вез к ним медикаменты, жиры, шоколад и корреспондента Бровмана. Интересно, сколько жиров в корреспонденте Бровмане? Эту ужасную мысль Ладыгин прогнал, но ему стало повеселее.
В этот раз аэродром построили сравнительно быстро и по всем правилам, расчистили и запасной, и после трех попыток ТБ-3 стартовал с Тикси. Прилетел Водопьянов. Он вел себя подчеркнуто бывалым и сказал Бровману: да ну, что им тут – топливо есть, еда есть… то ли дело на льдине… Считай, курорт. Бровман рассчитывал пробыть на «Седове» никак не больше трех месяцев и весной вернуться на берег – если повезет, со всем экипажем; задержался он, надо признать, подольше, но не жалел. В трудных условиях, когда не происходит ничего нового, но постоянно приходится справляться с сотней мелких дел, разрастающихся в Заполярье до подвига, время спрессовывается: разбирая свои записи, Бровман поражался, как много всего происходило и как мало запомнилось.
Больше всего он, как Печорин, беседовал с доктором; это было интересно.
Доктор Батагов времени не терял. Хотя больных в клиническом смысле не было – и при этом слегка нездоровы были все, – два года пребывания во льдах давали парадоксальный эффект: человек как бы примораживался, ибо не делал ничего, что старит: не переживал любовных и карьерных разочарований, почти не ссорился с соседями из-за мелочей, не следил за международными известиями. Однако при этом, безусловно, страдал, ибо никаких положительных эмоций, кроме как от сладкого, а сладкого было мало. Иногда, допустим, приходили приятные радиограммы – так, на Новый год всем пятнадцати было присвоено звание почетного полярника, реже случались сеансы радиосвязи, можно было услышать родню, ее по этому случаю привозили в Москву, но это, как говорил Батагов, была палка о двух концах. С одной стороны, нельзя было не радоваться, слыша лепет деток, с другой – детка была только у Ефремова, прочие подобрались бездетные; Ладыгин впрямь стремился брать тех, кому нечего терять. У Ефремова после общения с деткой мужеска пола – весьма, впрочем, великовозрастной, двенадцатилетней, ломко басящей, – случился сердечный приступ, но, замечал Батагов, не от разлуки, а от необходимости скрывать чувства. На той стороне его слушали журналисты «Комсомольской правды», которые и проводили этот сеанс фальшиво-бодрыми голосами, оскорбительно звучащими тут, во льдах; и седовцам надо было бодриться и все время повторять: мы горды, мы бодры, мы выполним с честью… Именно эти эмоции – прямо скажем, на разрыв – вызвали у Ефремова слезы: не так от тоски по детке, как от жалости к себе. Я, говорил Батагов, непременно займусь по возвращении – если, конечно, вернусь – систематизацией своих наблюдений над человеком в экстремальных обстоятельствах: отсутствие ярких эмоций – а их тут так же мало, как и красок – действительно продлевает жизнь, но чёрта ли в такой жизни? Возникает интересное состояние – как бы вечный ад, не зря его последний круг – лед, а не пламя; во льду можно сохраняться бесконечно. Я не шутя думаю, добавлял доктор, что жители полярных областей, если их прилично кормить и не давать окончательно запаршиветь, могут превзойти долголетием горцев; ведь мы, хоть и много таскаем тяжестей и разбиваем льды для аэродрома, действительно не живем. Тут можно хорошо порассуждать о том, что такое жизнь, но это уже не моя сфера.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Дмитрий Быков Истребитель [litres] обложка книги](/books/384498/dmitrij-bykov-istrebitel-litres-cover.webp)





![Дмитрий Быков - Эвакуатор [litres]](/books/388184/dmitrij-bykov-evakuator-litres-thumb.webp)
![Дмитрий Быков - Литературная мастерская [От интервью до лонгрида, от рецензии до подкаста] [litres]](/books/393469/dmitrij-bykov-literaturnaya-masterskaya-ot-intervyu-thumb.webp)
![Дмитрий Быков - Советская литература - мифы и соблазны [litres]](/books/398599/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn-thumb.webp)
![Иван Шаман - Истребитель [litres с оптимизированной обложкой]](/books/414451/ivan-shaman-istrebitel-litres-s-optimizirovannoj-thumb.webp)
![Иван Шаман - Истребитель [litres]](/books/414511/ivan-shaman-istrebitel-litres-thumb.webp)