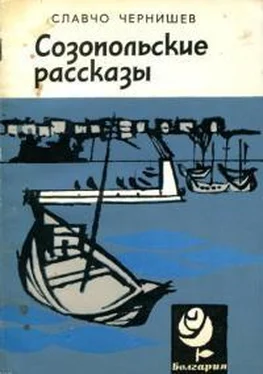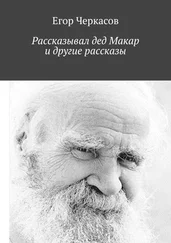Сделалось светло, как днем, в дыме, костров было нечто мистическое. Странные, удлинившиеся тени, древняя классическая декорация, невиданные костюмы — феерия!
А представление по-прежнему хромает. Спектакль ведь не просто скрипка, у которой ничего не стоит исправить фальшивый тон, а целый оркестр! Да и постановка сама по себе была оркестровая.
Незадолго перед четвертым эпизодом отзываю в сторонку Креона — Толстунова… Юноша, кстати сказать, свыкся со своей не весьма сценичной фамилией, не думает менять ее, кокетничает ею… Так вот, отзываю я сего исключительно талантливого актера, бывшего докера, потомственного пролетария, в сторону, ибо показалось мне, что именно он морит со смеху фиванских старцев.
— Толстун, — шепчу, — ну-ка дыхни.
Тот упирается. Типичный, должен вам сказать, представитель богемы, баловень публики, особенно — женщин.
— Дыхни! — повторяю.
— Не валяй дурака, папаша! — возражает он. — Что мы, в церкви?
— Вот именно в церкви! — повышаю я голос. — Чем сцена не церковь? Храм!
А он, извините, отвечает:
— Привет от мадам Розы! — и ухмыляется.
Иными словами, склероз, мол, тебя одолел.
Тут я вспылил.
— Рыбаки, — кричу, — пришли своего брата увидеть, а ты, сволочь, Мельпомену компрометируешь. Позор!
— Ку-ку! Мадам Роза! — продолжает измываться он, а от самого, простите за выражение, перегаром, как от винной бочки, несет.
— Вот оно что! — говорю. — Все ясно! Продолжай в том же духе, пока голову не сломишь! Но чем народ-то виноват, что такие вот хулиганы на его спине выезжают? — И в возмущении поворачиваюсь к нему спиной.
Я далеко не святой и выпить иногда не дурак, и к юнцам отношусь с отеческой заботой, недаром они меня «папашей» зовут, но морской закон соблюдаю строго: на борт пьяным не поднимаюсь!
Ну, ладно, в пятом эпизоде получилась полная галиматья — позор на всю мою жизнь! Является Тирезий-прорицатель, я подаю ему реплику, а он, не расслышав, начинает с конца. Вместо того, чтобы сказать:
Мужи фиванские, вдвоем пришли мы
С глазами одного. Для жалкого слепца
Без вожака дорога невозможна…
он шпарит:
Ты разберешься в знаках моего
Искусства. Я на гадательском престоле
Был, к которому все птицы прилетали…
Затем, прислушавшись к моему шепоту, возвращается к началу:
Мужи фиванские… и так далее.
Креон, и тот увяз в репликах о золоте Сард и сокровищах Индии. А ко всему прочему, в хоре смех! Безобразие! Гроша ломаного не стоим и где же — в лучшей сцене! Директор рядом со мной губы в кровь кусает. Трагедия!
Бедняги зрители глаза таращат, силятся понять текст и ход действия…
Актеры все же выбрались из трясины, и экзод, должен признать, прошел недурно. По-ремесленнически, но недурно.
Кончились наши муки.
Народ молчит — потрясенный, растроганный, очарованный. А может быть, обманутый? Актеры, думая, что «публика» не разобралась в конце, вышли и стали кланяться, не дожидаясь вызовов. Тогда матросы бросились на эстраду, подняли их на руки и понесли к зрителям. А те, повскакав с мест, аплодируют, беснуются.
Просто фантастично!
Гляжу, крестьянки обнимают Антигону, словно богородицу, и кончиком косынки утирают свои женские слезы.
Древние старики плачут, руки Гемону и Тирезию целуют. Один из них, с библейским ликом, говорит, не вытирая слез:
— Вы, пожалуй, того, спутались малость, но это, стало быть, от винца. Наше винцо забористое!.. Спасибо вам, спасибо! — И кланяется в землю. — По гроб жизни помнить будем.
Все поняли и — простили… Народ!
А наши — пристыжены, сконфужены, жалки.
Снова все уселись за трапезу. Дудочники и волынщики вовсю стараются, крестьянские девушки заливаются-поют, а наши, как воды в рот набрали, сидят, опустив головы. Деликатные хозяева подумали, что это с усталости, и немного погодя ушли восвояси. (Темень. Ночь. Женщины и ребятишки. До дому — километры…)
Матросы натаскали одеял, и мы улеглись на лужайке. А над нами зеленые звезды сияют, рядом тихо стонет море…
Утром проводили нас так же торжественно — флаги, цветы. Щедрые, великодушные и добрые.
— Не забывайте нас! Почаще приезжайте! Хорошее это дело — театр! Чудесно сыграли! Великое страдание мы увидели! Нельзя было без слез смотреть! — слышалось со всех сторон.
Сели мы в автобус — и на полном газу обратно. Едем и молчим. Опозорились!
Через час-полтора автобус стал огибать огромную дугу какого-то залива. Дорога пролегала возле самых дюн, кое-где поросших жесткой травой. Море — васильковая синь. А над заливом строго вырисовывается этакая голая гора — словно попавшая сюда с мертвой планеты. Пустыня. И странное, рассеянное освещение.
Читать дальше