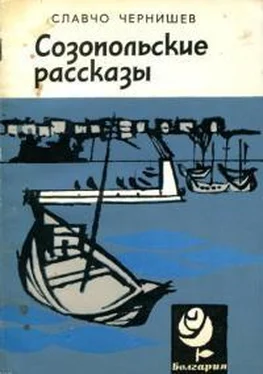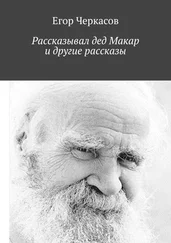Бухту со всех сторон окружали угрюмые красноватые утесы. От них исходило ржавое сияние, огненной дымкой переливавшееся на солнце. Море прихотливо изрыло огромные скалы, и в них темнели небольшие гроты и фиорды. В их черных извилинах, обросших скользким морским мохом, прятались ленивые горбатые рыбы со странным названием спарит. Суровый пейзаж, обрамленный зубцами утесов, казался почти горным. Лишь в глубине бухты желто розовела узкая песчаная полоска. Там на душном солнцепеке гнили водоросли и темно-синие мидии. Их резкий запах доносился до нас.
Бросив якорь почти в центре спокойной зеленой подковы, мы непрерывно, одну за другой, вытаскивали крупных смарид. Блеснув медно-фиолетовыми разводами, они, словно тяжелые слитки серебра, падали на дно баркаса.
Мы с Правдой чуть дышали от изнуряющего зноя, хотя и были в одних плавках. Не помогали ни широкополые соломенные шляпы, ни едва ощутимое дыхание большой воды. Но наперекор всему никакая земная или морская сила не была бы в состоянии прогнать нас отсюда, ибо после упорных поисков, мы наконец-то попали на клев.
Голые высокие утесы загораживали собою горизонт, так что наш кругозор был как-то по-домашнему стеснен, хотя за нашей спиной расстилалось неподвижное синее море. Наши дочерна загоревшие тела побелели от соли, словно кто-то намазал нас нашатырем. Мы забрасывали и тотчас же вытаскивали самоловы-«чеконты» и в спешке забывали перекурить или же хотя бы освежить потрескавшиеся губы ярко-красным арбузом, который так и увядал в невыносимой жаре.
Море, как здесь говорят, умерло.
Внезапно рыба перестала клевать. Мы решили выкупаться. Затем я предложил Правде поваляться на пляже. Он чуть нахмурился, однако, как обычно, встал рядом со мной, и мы бросились в воду. Правда, который был и моложе меня и лучше плавал, доплыл первым.
Последние несколько метров измучили меня. Бухта была глубока, и ноги долго не доставали дна. Из воды я выбрался совершенно обессиленный и повалился ничком на раскаленный песок. Зной разморил меня. Повернув голову к Правде, я увидел, что он как-то особенно смотрит на меня.
Мое «морское самолюбие» было задето.
— Чего ты? — сердито спросил я.
— Ничего. Точно так вот лежал капитан, — сказал парень.
— Какой еще капитан?
Правда взял в руку мидию и стал чертить ею на песке.
— В то время, летом сорок третьего года, мне шел десятый год. Был у меня дружок, Васко его звали. Отец его служил писарем в общине, бедняк вроде нас. Мой, ты его знаешь, все же был рыбаком, но в ту пору дробил камни в концлагере Атия. Старший брат кое-как перебивался рыбной ловлей, мать, и та приносила с фабрики кое-какие гроши, но бедность одолевала. Я постоянно был голоден, и мы с Васко целыми днями бродили по берегу. Питались виноградом и инжиром, не брезговали и сырыми мидиями…
— И разыскивали запечатанную бутылку! — вставил я с легкой усмешкой.
— Про бутылки мы тогда не слыхали. Собирали плавник — море нередко выбрасывало здоровенные коряги. Впрочем, чего только не выбрасывало в те времена море! Сапоги, кителя, бескозырки, бочонки, ящики и много трупов — немцев и итальянцев. Война и море давали нам недурной «улов».
Однажды, примерно в это вот время, бродили мы, усталые и отчаявшиеся. Накануне был шторм, и об этот вон риф, — Правда указал на небольшой скалистый мыс справа, — разбилась шлюпка с тремя советскими матросами. Полицейские выждали, чтобы они разбились и утонули у самого берега, и только тогда вытащили их. Шкурой своей не желали, сволочи, рисковать. Даже арестовали тех, кто хотел помочь матросам. Из документов узнали, что они с какого-то, наверно торпедированного, эсминца.
Так вот, бродим мы с Васко по раскаленным скалам, еле ноги волочим. Обогнул я вон тот рифик, — Правда указал на скалистый мыс слева, — и даже крикнуть не успел от неожиданности. Здесь вот, где ты сейчас сидишь, лежал, уткнувшись лицом в песок, моряк огромного роста. Мертвый! Ноги его были в воде. По форме я догадался, что это советский моряк. В эту минуту Васко, поравнявшись со мной, заорал во все горло: «Чур, мой!» — и бросился бежать к утопленнику, но я оказался проворнее и опередил его.
Читать дальше