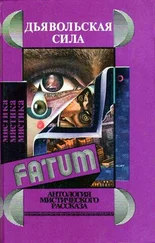— Кто ты по профессии, Себастьян?
— Художник. С детства люблю рисовать, да и рука не позволяла особо раздумывать над выбором.
— Ты, помнится, отправился искать сестру, — постарался внести ясность Кочет.
— Да. Мать больна и не выдержит долго этой муки неизвестности. Говорил с психиатрами. Они берутся вылечить сестру от чрезмерного христианского рвения.
— Люда была здесь позавчера, — повторил Кочет. — Дальше она отправилась по дороге на Касимов, кажется.
— Спасибо. Извини за бардак. Успею к вечеру добраться до ближайшего села?
— Да, конечно, — машинально ответил Кочет, хотя за окнами давно стемнело.
Себастьян простился и поспешно зашагал мимо накренившихся крайних оград. На столе остался забытым нож с витой рукояткой.
Любитель гладить кошек, учитель знал, что смерть — это свет и смех. Он жил в плену чудес и изумлялся, что жив. Время его вырастало из неба, высокого и беззвучного, как колокол. Иногда озирался увидеть земное — и глаз долго не различал вещей. Когда-то стыдился своей проницательности — а теперь и она преобразилась в послушание. Следил оком сердце, его сердитые охи от ойкумен. О, эти возвращения впотьмах, а вслед ударам сердца еще доносится тягучая, как патока, тяжелая, как соты, и солнечная мелодия. С той стороны все выглядело столь иначе, что разражался смехом — смехом внезапно потерявшего зрение, смехом сбившегося с пути, смехом еще раз очарованного. Случалось, ускользал не туда и впечатывался в чужую жизнь бессердечным любовником, миражем, магом. Время ограничено веками, и закатывался в кельи веков, чтобы с кошачьей мягкостью переступить из, чтобы упасть в пасть чудовищного льва-солнца. Сегодня, здесь, среди славян, слагал слова, черкал рифмы отточенным карандашом. Сердцевед — неслось ему вслед, и снисходил, любил до блуда, всегда оставаясь только зрителем смен выражения лица и цвета кожи, суффикса имени и сути души.
Когда, сгребя в портфель россыпи рукописей, принял нелепое предложение заведовать школой в бесследной деревне, ощущал в этих сборах дыхание иного ухода и счастье его. Слишком веселый для своих сорока пяти, теперь он лучился всепроникающей ласковостью. Он раздал, расточил нищим духом то, что казалось ему сокровищем, и теперь беспечно насвистывал среди осин одичавшей усадьбы, всемогущий над десятком мечтательных мальчишек, которых сегодня вызвал из класса в эдемский сад на снегу.
Среди его воспитанников был и Артур, четырех лет, и к нему благоволил не имеющий законных детей учитель. Дитя это казалось разумно сверх меры тем необыкновенным лирическим разумом, по которому узнаются будущие прозорливцы, священники, поэты. Сегодня Артур был несом на плечах учителя и ловил падающие щекотные снежинки.
Сам выпускник философского факультета, учитель измерял на оселке детского воображения крепость диалектических категорий. Сталкивая Армстронга и Аристотеля, оптику и Оккама, Наполеона и Птолемея, он, может быть, не добивался ясности, но зато — яркости пленительного мира как зовущего голоса, чьи слова ошеломляюще невнятны. Артур, самый младший, попал в школу недавно при странных обстоятельствах. В Дивово его привезла мать, молодая особа с заплаканными глазами, заочно известная учителю как поклонница его таланта и писательница восторженных к нему писем. Прибыла на попутке из соседней деревни, где, по рыдательным признаниям, бросила мужа и дом. Устроившись к глухой старухе на жительство, Ольга сразу же развила бурную деятельность, выражавшуюся, главным образом, в частых командировках в город, и по этой причине Артур оставался как бы сиротой.
В первый день появления Ольги учитель имел с ней долгую беседу. Судя по всему, Ольга ехала в Дивово именно с целью ежедневного лицезрения своего кумира. Собственная ее душа, пестрая, как пасьянс, искала воплощения более радикального, чем слово. Ее сжигала мечта всех кандидатов в Крезы. Этой мечтой подвигла некогда мужа на переезд из благоустроенной квартиры в глухую деревню. Переселение совпало с форте фермерского движения, и они оформили соответствующие документы на землевладение. Но муж, как водится, оказался бесхребетным лентяем, а предпринимательский талант Ольги, не находя себе устья, окрашивал их совместную жизнь в тон истерической горечи. В учителе она мечтала видеть союзника, соратника, но, встретив неограниченное миролюбие его, мгновенно разочаровалась. Ольга думе предпочитала дело, и раджас — саттве. Была бы из вершителей вершин, когда бы не вершины — отшельники. Она избрала Дивово своей взлетной площадкой. Учитель вполуха слушал фантасмагорические прожекты, ни минуты не сомневаясь в реальной их осуществимости. Без особых возражений принял упреки в социальной пассивности, не согласующейся с пафосом его собственных стихов. Давным-давно он выбрал: выбежать, вытечь в вещи мира, как в подставленную посуду, — или изнутри себя, сквозь цветные витражи сердца, сквозь жалюзи жалости смотреть наружу и научаться жизни окольно или оккультно — но не по логике обладания.
Читать дальше




![Хол Клемент - Огненный цикл [ Экспедиция Тяготение. У критической точки. Огненный цикл]](/books/80564/hol-klement-ognennyj-cikl-ekspediciya-tyagotenie-thumb.webp)