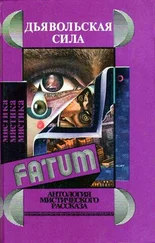Учитель между тем направился к машине и в темноте едва не столкнулся с новым пришельцем.
— Привет, хозяин, как тебя звать, забыл. Пойдем со мной! — ухватившись за руку учителя, горячечно заговорил тот, но, заглянув учителю в лицо, отпрянул, извинился и направился прочь.
— Себастьян! — во весь голос крикнул с порога Кочет.
— А? — обрадовался тот. — Я уж решил, дом перепутал.
Кочет и Себастьян вошли, учитель, потоптавшись и перекурив, следом.
— …Уже наступила темнота, вот как теперь, я брел вслепую, проваливаясь то и дело в сугробы, как вдруг, споткнувшись обо что-то, упал, и руки мои ощутили совсем не снег. Я разгреб и увидел двух закоченелых мертвецов, лежащих рядом. Стало жутко, я хотел уйти с этого места, но почему-то наклонился к лицам. И узнал Люду. Тот, второй, наверно, набросился на нее, но сам почему-то мертв… Я оттащил трупы на обочину и заметил место. Так вот, теперь мне надо отвезти Люду домой. Хотел дойти до деревни впереди, но вспомнил, что ты неплохой мужик, и вернулся. — Он просительно взглянул на Кочета. — Сестричка уже мертвая, и все наши споры потеряли смысл. А я боюсь ее Бога! Он страшен! Если ее, невинную и так любившую Его, смял, что же будет с нами? Тот, библейский, дарил своим праведникам славу и богатство, и долгоденствие. А этот, едва Люда сделала несколько шагов Ему навстречу, — убил. Зачем?!
— Отроче, спокойней, — вмешался учитель. — Ты полагаешь, что жизнь — самое бесценное из сокровищ? Разве не встречал ты в той же Библии, что блаженство даруется праведникам в основном после окончания оной? Бытие не исчерпывается жизнью, и ни один философ всерьез не настаивал на безусловном благе того, что начинается как жизнь. Если Бог выбирает созревшие колосья, то ему незачем ждать, пока сгниет и стебель. Нет способа достичь другого берега, кроме как вытряхнуться из тела.
— Избыток блаженства непереносим сердцем человеческим, — в смятении ведения проговорил Кочет.
— И тогда сердце закалывают, — подхватил учитель. — Или ты думаешь, что человек, даже отпетый, может умереть и не быть убит Всевышней рукой? Как будто можно уснуть — не в сон, и проснуться не в явь! Если у Бога есть тайные имена, то одно из них — смерть. Не то жалкое уничтожение плоти, не блудные хождения души в призрачных пространствах, но нечто воистину иное, чей знак на земле — Ничто.
Посеревший Себастьян внимал, стиснув зубы. «Тебя бы головой в мешок смерти», — хотел было начать, но учитель, словно угадав, ласково воскликнул:
— Смерти нет!
— Если, конечно, ты нужен кому-нибудь в каком-нибудь из миров, божьих или демонических… — засомневался Кочет.
— Иглу ведут стежок за стежком по ткани, — развивал свою идею учитель. — Нить с этой стороны — жизнь, нить по ту сторону — смерть, а на самом деле игла одна, и нить одна, и это выше жизни и смерти! Назови ткань материальной природой, назови нить шельтом, а иглу — монадой, и готова история воплощенной души. Этот мир, могучий и волшебный, боится умереть, как роженица — родить. Смерти нет, друзья мои, — обнял за плечи Кочета и нахохлившегося Себастьяна.
— Целый год я таскаюсь по России с моей тоской, — заговорил Себастьян, — и приобрел вкус к унижению в конце концов. Обзовут рванью, бросят в вонючую камеру, а сначала всегда бьют. И лежишь, как будто открученный шуруп, и весь теплишься чудной радостью.
— Унижение, как всякое вообще страдание, лишь делает отчетливым истинное положение вещей. Мы знаем себе цену, лишь пока держимся за руки. Стоит кому-то выпасть из цепи и оказаться одному перед лицом неба, как пелена спадает с глаз, и он видит свою ужасающую ничтожность, и беспомощность, и нищету, — откликнулся Кочет.
— Предположим, смерти нет в теоретических выкладках, — заупрямился Себастьян. — Но вот Люда… Она могла родить такого вот мальчугана и воспитать, скажем, в духе христианских добродетелей. Талантливый химик, постигала бы тайны мироздания, окруженная завистью и признанием — и земной любовью. Разве можно зачеркивать всю жизнь ради бесплотного призрака, подзывающего из-за гроба?!
Если юность игнорирует смерть, старость ее боится, то средний возраст, как правило, выступает апологетом гибели. Учитель неуклонно продолжал:
— Ты хочешь сказать, что ранняя смерть Люды абсурдна. И это нормальная человеческая позиция, признающая необходимость личной истории и соответственно слипаний и разлипаний, называемых этносами, государствами, семьями. В научном выражении мировая история — градуированная шкала эпох, где современной отводится наивысшая позиция, и оттого возникает иллюзорный эффект стабильного общего прогресса. Как всякая эпоха организует прошлое и будущее в виде собственных фантомов, так же отдельный индивид — эпицентр и творец своей вселенной. Ибо всякий — дух, объективирующий вовне собственные состояния и этой объективацией отделенный от прочих, всякий — идущая к самотождественности монада. Чего же стоит теория активного преобразования мира, когда мир — фикция? Истинно лишь то, что полезно для духа. Это едва ли относится к научно-техническому культуризму последних веков. И если сестра нашла кратчайший путь к освобождению, и он окончился, едва начавшись, — поклонитесь ей, а не плачьте.
Читать дальше




![Хол Клемент - Огненный цикл [ Экспедиция Тяготение. У критической точки. Огненный цикл]](/books/80564/hol-klement-ognennyj-cikl-ekspediciya-tyagotenie-thumb.webp)