Джун. Ты не знаешь, любил тебя отец или нет? Это же всегда чувствуется.
Барри. Каким образом, интересно?
Джун. Он тебя хвалит, у него гордость во взгляде. Иногда кладет руку на плечо — откуда я знаю, как мужчины демонстрируют свою привязанность друг другу?
Барри. Дают объявление о пропаже.
Джун. Черт. Все опять как тогда, с анекдотом. Кажется, история становится печальной.
Барри. Ерунда. У нас все шло отлично. Он не трогал меня, не мучил, не заставлял ничего делать, ну или почти ничего, не вдалбливал своих взглядов на мир, одним словом, не считал меня идиотом, как другие отцы. Так что печалиться не было причин.
Джун. А теперь? Вы понимаете друг друга? У вас есть контакт?
Барри. Я только что побывал у него на могиле. Он умер двенадцать лет назад. Похоронен в Шпандау. [23] Шпандау — район старого Берлина.
Джун. И отец никогда не рассказывал тебе, чего ему это стоило — в одиночку вырастить сына?
Барри. Нет. Он вообще мало говорил. Ему приходилось слишком много общаться на работе. У него просто не было желания. Правда, когда он лежал в больнице, болтал без умолку, как невыключенное радио. Но рассказывал только о войне и о детстве. И ни разу не заговорил о том времени, когда я уже родился. Он очень любил сестру. И это все время всплывало. Кроме сестры, были только воспоминания о том, как он «однажды в тумане налетел прямо на русских». «Шум идущего в твою сторону танка — самое худшее, что я слышал в жизни», — часто говорил он, или еще: «В те времена даже форма не портила девушек». Все в таком духе. Так, во всяком случае, было перед самым концом, когда я уже ходил к нему каждый день. Врачиха сказала, что, когда я прихожу, ему становится лучше.
Джун. А ты тосковал по сестре?
Барри. Не стоит об этом.
Пока мы вели диалог, я потерял всякое представление о времени и совершенно забыл, что не говорю, а стучу пальцами по клавишам, и не слушаю, а читаю. Забыл о голоде и жажде и вспомнил, только когда заметил, что сжимаю колени — так сильно хочется в туалет. Забавно, сначала взгляды — исключительно пища для глаз: я часами за ней наблюдал, а теперь вот все обращается в слова. Я, по привычке поднимая глаза и скользя взглядом по ее окнам, возвращался к экрану и писал или ждал ответа.
Порой мы прерывались, не отсоединяясь от сети, и когда один из нас хотел продолжить беседу, он просто задавал другому вопрос или отправлял знак вопроса.
Джун. А женщины тебя любят?
Барри. Спроси у них.
Джун. Уклоняешься от ответа.
Барри. Это не запрещено.
Джун. Блондинка заснула на лугу. К ней приблизилась корова. Прямо над лицом блондинки — вымя. «Хорошо, мальчики, — говорит она, проснувшись, — только один из вас отвезет меня домой».
Барри. А я думал, ты знаешь только один анекдот.
Джун. Специально покопалась в Интернете. Там целый сайт с анекдотами про блондинок. Но этот, по-моему, лучший.
Барри. Пожалуй.
Джун. Дай знак, что тебе смешно.
Барри. Ты довольно много говоришь о сексе.
Джун. Просто рассказала анекдот.
Барри. Почему опять про блондинку?
Джун. Я сама блондинка.
Барри. Чушь. Блондинками называют хорошеньких дурочек. Ты — не такая.
Джун. А я думала, имеется в виду цвет волос.
Барри. Вот теперь мне смешно.
Джун. Ну и отлично.
Врачихой, лечившей моего отца, была Сибилла. Он изо всех сил пытался очаровать ее и просто сиял, когда та входила. Впрочем, он ей тоже нравился — настолько, что это чувство распространилось и на меня. Отец был еще жив, когда мы с ней стали встречаться, сначала, конечно, только затем, чтобы поговорить о нем. Сибилле очень хотелось сблизить нас с ним, до того как он умрет. Но прежде чем она поняла, что сближать нас бессмысленно — между нами ведь не стояли ни злоба, ни взаимные обвинения, кроме вместе пережитой потери, — мы с ней оказались в одной постели. Но даже и потом, во время похорон, Сибилла никак не могла взять в толк, как это отец и сын, у которых друг к другу нет никаких претензий, могут быть настолько далеки друг от друга. Наверное, она так этого и не поняла.
А ведь все очень просто: одни люди близки, а другие — нет. И родство большой роли не играет. Мы с отцом и не стремились изменить ситуацию. Пусть все остается как есть. Годы спустя, начитавшись каких-то психоаналитических глупостей, Сибилла еще раз попыталась освободить меня от нерешенных проблем. Но из этого опять ничего не вышло: я отказывался подвергать свою личность анализу, основанному на какой-то сомнительной заумной болтовне. В своих чувствах я вполне в состоянии разобраться самостоятельно и всегда знаю, чего мне не хватает. Я, например, никогда не злился на отца, заметив его возбуждение, не огрызался ему из-за какого-нибудь глупого флирта. В жизни всякое бывает. И в один прекрасный день Сибилла наконец оставила эту тему — теперь она поднимала ее, только если была обижена и хотела меня задеть.
Читать дальше
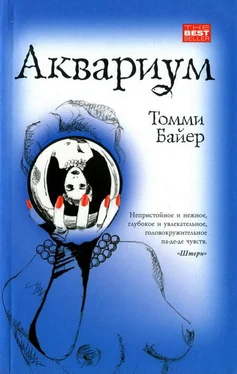





![Томми Яуд - Ни хрена я не должен! [Манифест против угрызений совести]](/books/390432/tommi-yaud-ni-hrena-ya-ne-dolzhen-manifest-protiv-u-thumb.webp)





