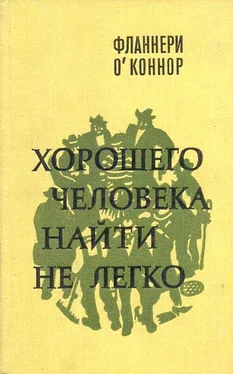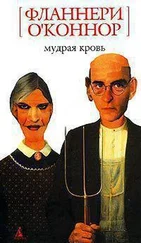Миссис Хоупвел не винила ее: ногу ведь тоже не вернешь (а ногу случайно отстрелили на охоте, когда Анжеле было десять лет). Как-то у нее не укладывалось в голове, что девочке ее тридцать два и что она больше двадцати лет так и прожила с одной ногой. Лучше было считать ее ребенком, а то просто сердце разрывалось; ведь это ж подумать, что ей за тридцать, всякую фигуру потеряла, а до сих пор ни разу в жизни не потанцевала и не повеселилась нормально , как положено девушке. Звали ее Анжела, но в двадцать один год она законным порядком переменила имя, благо была в чужих местах. Миссис Хоупвел ничуть не сомневалась, что она долго подыскивала себе самое дурацкое имя на свете. Слова матери не сказала, уехала и переменила; а какое было чудное имя — Анжела. Теперь по документам она была Хулга.
Миссис Хоупвел считала, что «Хулга» — вообще не имя, а какая-то несуразная ерунда: не то холка, не то втулка. Она дочь так не называла. Она по-прежнему говорила «Анжела», и та машинально откликалась.
Хулга притерпелась к миссис Фримен: по крайней мере не нужно теперь разгуливать с матерью. Даже беседы о Глайниз и Каррамэй можно снести, лишь бы ее не трогали. Сперва она думала, что нипочем не уживется с миссис Фримен, раз ее не возьмешь никакой грубостью. Иногда миссис Фримен мрачнела и несколько дней подряд ходила надутая непонятно из-за чего; но прямые нападки, явная издевка, грубости в лицо — это ей все было как с гуся вода. В один прекрасный день она вдруг стала звать ее Хулгой.
При миссис Хоупвел она ее так не называла — та бы вспылила, — но если ей случалось встретить девушку где-нибудь во дворе, она тут же обращалась к ней, прибавляя: «Хулга», — и грузная, очкастая Анжела-Хулга хмурилась и краснела, словно ей в душу лезут. Кому какое дело до ее заветного имени. Сначала она облюбовала его только за грубость, а потом ее осенило: это же то самое, что ей нужно. Для нее имя звучало гулко, как удар молота в небесной кузне, где трудится потный, грубый Вулкан и куда по первому зову спешит его супруга Венера. Это имя было ее высшим жизненным свершением. Она несказанно торжествовала, что матери не удалось вылепить из нее ангелочка-Анжелу, и торжествовала еще больше, что сумела превратить себя в Хулгу. Однако оттого, что имя пришлось по вкусу и миссис Фримен, она только злилась. Казалось, будто колкие глазки миссис Фримен так и буравили ее, добираясь до самого сокровенного. Чем-то она привлекала миссис Фримен; и однажды Хулга поняла, что ту притягивает ее искусственная нога. Миссис Фримен особенно интересовали всякие гнусные хвори, скрытые уродства, растление малолетних. Из болезней она предпочитала затяжные и безнадежные. Миссис Хоупвел не раз при Хулге рассказывала в подробностях о той злосчастной охоте — как ногу оторвало напрочь, а девочка даже сознания не потеряла. Миссис Фримен никогда не уставала про это слушать, словно дело было час назад.
Проковыляв утром на кухню (необязательно ведь так ужасно топать, а топала она назло, за это миссис Хоупвел поручилась бы), Хулга молча оглядывала их. Миссис Хоупвел в красном кимоно, волосы накручены на тряпочки — доедала завтрак, а миссис Фримен, облокотись на холодильник, нависала над столом. Хулга ставила на огонь кастрюльку с яйцами и стояла у плиты, скрестив руки, и занятая разговором миссис Хоупвел посматривала на нее краем глаза и думала, что девочка просто себя запустила, а так-то она вовсе и недурна собой. Лицо как лицо: к нему еще приятное выражение, так и совсем бы ничего. Миссис Хоупвел любила говорить, что иной, может, красотой и не блещет, но если умеет видеть в жизни хорошее, то и сам хорошеет.
Посматривая так на Анжелу, она каждый раз огорчалась, что девочке взбрело на ум стать доктором философии. Проку ей от этого никакого не было, а теперь со степенью в университете уже делать нечего. Миссис Хоупвел считала, что затем девушкам и стоит учиться, чтобы покрутиться среди сверстников, но Анжела «доучилась до точки». А начинать все заново у нее сил бы не хватило. Доктора сказали миссис Хоупвел, что даже при самом заботливом уходе Анжела едва ли доживет до сорока пяти. У нее был органический порок сердца. Анжела говорила прямо, что, будь она поздоровее, она бы недолго любовалась на красноземные пригорки и простых надежных людей. А уехала бы читать лекции в каком-нибудь университете, где бы ее слушали люди с понятием. И миссис Хоупвел прекрасно представляла, как бы она вырядилась огородным пугалом и собрала себе очень подходящих слушателей. Она и тут-то разгуливала в заношенной юбке и желтом свитере с вылинявшим ковбоем. Она думала, что это забавно; а ничего забавного, просто глупо, не вышла из детского возраста — и все тут. Ума хоть отбавляй, а соображения ни на грош. Миссис Хоупвел казалось, что дочка год от году все больше пыжится, грубит, заносится, ставит себя от всех особняком, того и гляди, вообще вид человеческий потеряет. А что за несусветицу она несла! Ни с того, ни с сего вскочила раз посреди еды, красная, с набитым ртом, и огорошила собственную мать: «Ты! Да ты загляни внутрь себя! Загляни внутрь себя и ничего не увидишь! Господи! — вскрикнула она, тяжело опустилась на стул и уставилась в тарелку. — Мальбранш как в воду глядел: в нас и есть наш предел! В нас и есть наш предел!» Миссис Хоупвел так и не поняла, чего это она так расходилась. Она только заметила, в надежде хоть как-то повлиять на Анжелу, что иной раз и улыбнуться не мешает.
Читать дальше