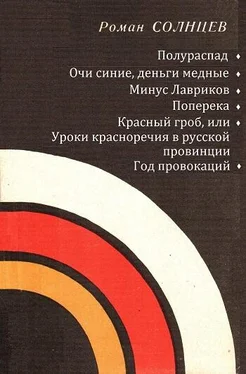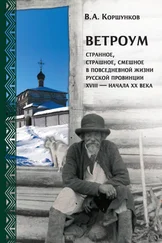Сегодня, конечно, он не пойдет ни на какой концерт. И вовсе не потому, что нет времени. Он и работать толком не сможет. Глаза не глядят на мир, губы не слушаются… И студентки, возможно, это поняли…
Ссора в его собственном доме случилась ни с того, ни с сего, и была совершенно глупой. Полуслепая, маленькая его мать, Ангелина Прокопьевна, со смутной полуулыбкой проходя по комнате, шаркая ногами в мягких тапочках (Броня в это время ушла на кухню, наливала из-под крана холодную воду в чашечку), нечаянно поддела провод удлинителя, утюг на гладильной доске дернулся и соскользнул на пол — слышно было, как от удара хрустнул паркет.
— Что? Что там?! Ах, что ты наделала?! — возопила невестка, швыряя чашку в раковину и бросаясь к утюгу. — Мой «Филипс»! Ах!
Она прыгала на месте с утюгом, тыча пальцем в верхнюю его часть Алексей Александрович увидел, что пластмассовая пуговка с цифрами слетела, укатилась в угол.
— Да я налажу, — пробормотал он, подбирая головку регулятора, и верно — белая пуговка со щелчком встала на место. Правда, краешек откололся, чернеет, как маленький полумесяц, но разве это столь уж важно?
— Это невозможно наладить! — стонала Броня, а тут еще она заметила, что и на полу беда — рухнув на паркет, утюг расколол одну из дощечек, половинка выскочила из гнезда, встала торчком. — Паркет! — присев, продолжала вопить жена. — Она нарочно!.. Видишь, она усмехается?..
— Да нет же, она, как любой слепой… или почти слепой… невольная улыбка…
— Невольная! Вчера «Шанель» в ванной разбила! А они в самом углу на полочке стояли. Это ж надо было постараться! Она нарочно!
— Почему?!
— Потому!.. Я неровня тебе, я плохая! — У Брони давно копилась неприязнь к свекрови, но до сей поры она сдерживалась, сверкая узкими, глубоко посаженными глазками.
С прошлой зимы старуха стала стремительно слепнуть, и Бронислава единственное, что позволяла себе, — отныне обходила ее театрально за метр, как столб… чтобы, дескать, не задеть…
И вот же, такая мелочь — утюг уронили на ее драгоценный паркет, и Броня словно обезумела. Подняв дощечку, целует, к щеке прижала. В одной руке утюг, в другой — деревяшка. Алексею Александровичу это показалось очень смешным, и он, как и мать, вынужденно улыбнулся.
— Ах, ты тоже? Тоже?!
— Деточка… — раздался тихий голос матери. — Ну зачем столько сердца? Я… я ремонт сделаю…
— А пошла ты!
— Бронислава! — Это уже чересчур. От бессильного гнева Алексей Александрович словно бы сознание потерял на секунду и очнулся. — Не стыдно?! Эх ты!.. — Не бреясь, быстро оделся и пошел прочь, скорее на работу, сутулый, закинув мосластые руки за спину…
Он просидел весь день, закрывшись, в своем кабинетике, отгороженном от длинной, как коридор, лаборатории фанерной перегородкой. Слышал, как там, за шкафами с химреактивами, возле сопящего и булькающего биостенда, негромко переговариваются сотрудники, моют под краном, стараясь не звякать, колбы, чашки Петри.
Кто-то закурил, потянуло сладковатым дымком.
Вошел с улицы, громко топая, старый лаборант Кукушкин, выполняющий особые поручения шефа, — кажется, достал все-таки еще один автоклав — тащит по коридору. На него зашипели, он густым баском спросил что-то, в ответ снова зашипели.
И все стихло. В эту секунду Алексей Александрович позавидовал Илье Ивановичу Кукушкину.
Маленький, как горбун, в коротковатых штанах, с вечно мокрыми завитками волос вокруг лысины, как у старого еврея-скрипача, человечек стоит, шмыгая носом, не решаясь заговорить. Илья Иванович обладал необыкновенно зычным голосом. Когда несколько лет назад Институт биофизики и Институт физики проводили митинг в поддержку Ельцина, он перекричал всех коммунистов — заревел, как пароходная сирена, слова не дал сказать. Без передышки орал:
«Хва-атит-нахлеба-ались-красного-киселя-я-ва-ашего… са-ами-соси-ите-из-руки-и-своей-кро-овушку-свою-вампи-иры!..»
И, если надо было где-то что-то достать и не хватало аргументов, Алексей Александрович посылал Кукушкина — тот выбивал…
Правда, эпоха Ильи Ивановича уходит — сегодня голосом не возьмешь, сегодня все решают только деньги.
Но сейчас Алексею Александровичу хотелось бы иметь именно такой голос, как у Кукушкина, и зарыдать, завопить на весь мир. У него и без этой домашней ссоры тяжко на сердце, и нет просвета впереди…
Со стены на Алексея Александровича смотрит щекастая, с бравым взглядом Броня — эту цветную фотографию она повесила в прошлом году. И еще штук десять лежат в пакете на тумбочке. Это ее увлечение — фотография. Ее религия. Она фотографирует мужа, подруг, сына Митьку, облака, деревья в окне и просит, чтобы «щелкнули» ее, и снова ее, то в строгой, то развязной позе, то в белом платье, то в розовом… словно желает каждое мгновение своей уходящей жизни запечатлеть… И все мечтает со своей японской «мыльницей» съездить за границу. Жены других местных знаменитостей где только ни побывали, а она…
Читать дальше