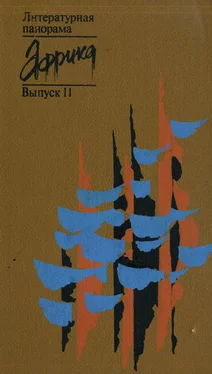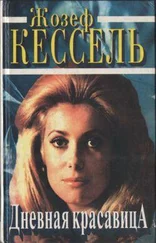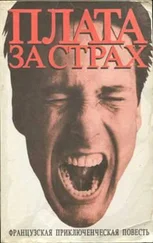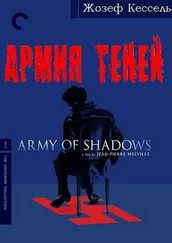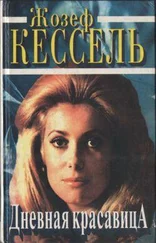Из стихотворений пятидесятых годов
Что зреют мышцы и мужают страсти,
А песнь души все так же молода,
Я рад это признать, и нежное смятенье
Все так же молодо — ты май тот помнишь,
Когда оно обрушилось на нас? Два наших сердца,
Как птицы, пели, ты свежестью травы благоухала,
Моя мавританка, моя светлокудрая!
И было так: мерцал улыбки бледный мрамор,
Черно и розово сверкали зубы,
Пурпурно светились усталые уста.
А что стареют мышцы, но не песнь души
В цветенье майском белом, я рад признать,
И розовый язык проворен, как челнок,
Моя негритянка, моя светлокудрая!
Ты говоришь: месяцы, дни и часы в своем ускользающем
беге — мгновенье.
На склоне лет, говорю я, наши с тобою часы
стали стократ плодотворней.
Наши часы направляли движенье недель, творя вереницы
ритмических образов,
Наши губы, что познавали неведомый прежде язык,
наши зубы и языки,
Наши губы с их влагой, где вызревала любовь.
Ты уедешь в свой край, для меня он волшебней,
чем Индия, он Восток или Запад, не знаю,
Устремишься к другим берегам, где песок золотой
и прохлада.
Наш единственный час будет длиться для нас
в своем ускользающем беге, как вечность,
А мгновенье с его содроганьем превратится
в грядущее мира, и мы проживем его, вставши
на корабельном носу
И обнявшись, как солнце с луной,
чтобы все началось в этом мире сначала.
Ты пришла
И твои глаза в мои проникли глаза
Твои глаза как магнитом притянутые к теплому очагу
Где молнией черной взметнулась фатально змея.
И наши ладони, ах! только чуть прикоснулись
одна к другой
Наши руки в объятьях с тобой нас не стиснули
И не сплелись наших ног тугие лианы
И не слились наши души в душистом дыхании
Харматтана. Я теперь понимаю
Как себя убивают коротким внезапным ударом
Юноши безнадежно тоскующие о розовом челноке
Который песни любовные ткет возрождая
Потерянный Рай.
Из книги «Письма из сезона дождей», 1972
Сейчас пять часов, ты сказала бы: время пить чай.
Семнадцать часов.
Письмо твое мягко, как хлеб, нежно, как масло,
мудро, как соль.
И свет над морем, неправдоподобно зеленым и синим,
И свет над Горэ, над Африкой черной,
над всей ее белой и красной землей.
В море — по случаю ли Воскресенья? — гирлянда
белых судов
Связующей тянется нитью между реками Юга
и фьордами Севера.
Письмо твое, точно крыло, парит белоснежно средь чаек.
Разлиты вокруг красота и печаль.
И остров Горэ, где сердце мое — где сердца мои
кровью сочатся.
Красный дом по правую руку, кирпич на базальте.
Красный дом посредине — крохотный, он притулился
между пучинами тени и света.
И большой, ах! очень большой красный дом,
где кровоточит любовь моя, словно пучина
Без дна. Там высятся к северу, по левую руку,
стены форта д’Эстрэ
Цвета тоскливо свернувшейся крови.
И внезапная дрожь, содроганье внезапное
грохотом грома, жалом кинжала.
Как ночной мотылек, зачарованный пламенем лампы,
Я бесцельно брожу, я кружу, и я крылья души опаляю
обольстительным пеньем сирен — твоих писем.
И под рукой книги нет никакой,
чтобы целительным ливнем пролиться над моею тоскою.
И мой дух бесприютный пустыннее, чем Сахара.
Вон он, горестный прах моего опустелого,
засохшим цветком поникшего сердца.
Ты одна только можешь спасти, вернуть мне надежду,
только ты и твое живое присутствие,
Только ты, мое настоящее время,
изъявительное мое наклонение,
мой глагол совершенного вида,
Только ты, само совершенство,
только сама, а не письма твои,
только губы твои, благодатнее летнего солнца.
Я тебя жду в глубине своего ожидания, жду,
чтобы смерть воскресить.
И солнце, как огненный шар, к румяному катится морю.
Я в лабиринте тропы заблудился меж бруссой и бездной.
И неотступно за мной по пятам
аромат горделивый и нежный струится,
щекоча заманчиво ноздри.
Он струится за мной по пятам, и ты тоже за мной
неотступно идешь по пятам, мой двойник
неразлучный.
Погружается солнце в тревогу,
В мельтешение света, в трепетание красок,
в смешение яростных криков.
На поверхности моря пирога, тонкая, точно игла,
напоказ выставляет хвастливо
Гребца и его двойника.
И кровоточат песчаники мыса Наз, когда маяк
зажигает огни на груди скалы вдалеке.
И мысль о тебе пронзает грустью меня.
Читать дальше