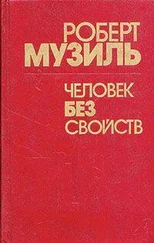Сразу по прибытии Гомо услышал здесь историю, надолго занявшую его воображение. История случилась не так давно, в последние десять–пятнадцать лет; один крестьянин, находившийся в отлучке немалый срок, вернулся из Америки и снова улегся к жене в постель. Некоторое время они радовались тому, что опять вместе, и жизнь их шла своим чередом, пока не растаяли последние сбережения. Тщетно прождав новых сбережений, как назло застрявших где–то на пути из Америки, крестьянин заново снарядился в дорогу, чтобы, по примеру других земляков, подзаработать себе на жизнь ремеслом лоточника, а жена осталась вести дальше убыточное хозяйство. Но назад он уже не вернулся. Зато несколькими днями позже на одном из дальних хуторов объявился еще один крестьянин, вернувшийся из Америки, с редкостной точностью высчитал, как давно они не виделись, потребовал на стол ту же еду, что они ели в день расставания, все знал даже про корову, которой давно уже и в помине не было на дворе, и сумел по–отечески поладить с детьми, которых послало ему иное небо, нежели то, что сияло все эти годы над его головою. Однако и этот крестьянин, пожив некоторое время в свое удовольствие, отправился в путь–дорогу с коробом всякого добра и больше не вернулся. История повторилась в округе и в третий, и в четвертый раз, пока кто–то не сообразил, что это был авантюрист, работавший вместе с их мужчинами за океаном и все у них выспросивший. В конце концов его забрали и посадили, и больше он не появлялся. Все женщины об этом жалели, потому что каждой хотелось теперь заполучить его еще денька на два и свериться поточнее со своей памятью, чтобы не подвергаться насмешкам зря; каждая, как теперь оказалось, сразу же почуяла тут что–то неладное, но ни одна не была настолько уверена в своих подозрениях, чтобы поднимать из–за этого шум и ущемлять вернувшегося хозяина в его законных правах.
Вот такие это были женщины. Их ноги выглядывали из–под коричневых шерстяных юбок с широкой, в ладонь, красной, голубой или оранжевой каймой, а платки, что они носили на голове и перетягивали крест–накрест на груди, были из дешевого набивного ситца с современным фабричным рисунком, но что–то в расцветке или в расположении узора вдруг отсылало к столетиям предков. И дело тут было не просто в старинном крестьянском уборе, а в самом их взгляде: стародавний, прокочевавший сквозь даль веков, он до сегодняшнего дня дошел уже замутившимся и стертым, но собеседник все еще явственно ощущал его на себе, когда глядел им в глаза. Обуты они были в башмаки, выдолбленные, как челны, из сплошного куска дерева, а поперек подошв, из–за плохих дорог, приделаны были железные пластинки, и на этих котурнах они выступали в своих синих и коричневых чулках, как японки. Приходилось им ждать кого–нибудь — они усаживались не на обочине, а на утоптанной земле посредине тропы и высоко подтягивали колени, как негры. Когда же они верхом на ослах поднимались в горы, то сидели не боком, свесив юбку, а по–мужски, зажав голыми ляжками острые края деревянных вьючных седел, опять–таки без всякого смущения задрав колени, и будто плыли вперед, чуть покачиваясь всем корпусом.
Но в то же время их радушие и любезность были столь непринужденны, что иной раз ставили в тупик. "Входите, пожалуйста", — говорили они, выпрямившись, как герцогини, когда в своих крестьянских хоромах слышали стук в дверь; или, к примеру, остановишься на минутку с ними поболтать, а одна вдруг и предложит с отменнейшей учтивостью и степенностью:
— Не подержать ли вам пальто?
Когда доктор Гомо сказал как–то раз смазливой четырнадцатилетней крестьяночке: "Пошли на сеновал", — сказал просто так, оттого что вдруг представилось ему в эту минуту столь же естественным улечься в сено, как животному — уткнуться носом в кормушку, — детское личико под острым клинышком унаследованного от древних прабабок платка нимало не испугалось, а только весело прыснуло носом и глазами, маленькие башмаки–лодочки, развернувшись на пятках, запрокинулись, и девчонка, казалось, вместе с граблями вот–вот плюхнется оттопыренным задом на жнивье; но все это лишь должно было, как в комической опере, выразить трогательно–неуклюжее изумление по поводу мужской похотливости. В другой раз он спросил рослую крестьянку, похожую на германскую вдовицу из трагедии:
— Ты еще девушка, да? — и взял ее за подбородок, опять просто так, оттого что вроде бы полагалось отпускать шуточки с этаким мужским душком.
Читать дальше