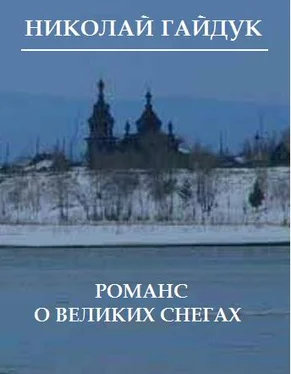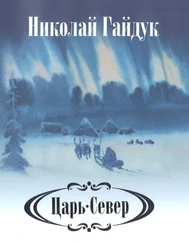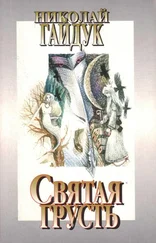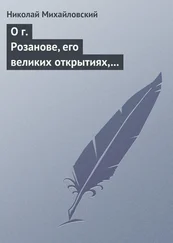Река понемногу темнела. В вечерних окнах зажигались бледно-жёлтые огни – отражение яркими иглами втыкалось в воду. И Стародым, знавший свой микрорайон, как свои пять пальцев, почти безошибочно определял, за какими окнами теперь поют и пляшут после полученной телеграммы, а за какими окнами рыдают или поспешно собираются в дорогу, одевая на себя всё чёрное, траурное.
Странно, нет ли, но его почти не волновало чужое горе – ему всё это по барабану. Он свою работу сделал честно, а там хоть трава не расти. Сказать, что Алексашка был равнодушным – не скажешь. Но вот такой характер: он был прохладноспокоен, когда вручал плохую телеграмму. Гриша Тетерин, сменщик, эмоциональный человек, тот неоднократно говорил, что «молнии» с печальным содержанием жгут ему руку и давят душу. Стародым с удивлением слушал – не мог понять подобных сантиментов.
– Работа есть работа, – говорил он сменщику, – чо слюни распускать? Ты лучше послушай анекдот. Мужик в командировке пропился подчистую. Денег осталось на одно только слово. Он пришёл на телеграф и написал жене: «Пятидесятирублируй». Чо, Тетеря? Не смешно? Ну, ты же трезвенник. Да ещё к тому же лирик, да? Такая, значит, марка у тебя.
Однако в последнее время Алексашка и сам немного рассентименталился не похуже сменщика с лирической душой. Но это было только во хмелю – это простительно.
Снова пригубив из горлышка чекушки, он задумчиво смотрел на реку, вздыхал, вспоминая родное село за Уралом – там его покойный дед когда-то был «начальником парома», катал парнишку с берега на берег. Вспоминался бурный ледоход, ледолом или, как дед говорил, – ледоколье. А потом широко шумело половодье, после которого под низким чернозёмным берегом укрепляли причальную стенку и появлялся паром, отзимовавший в затоне…
Стародым содрогнулся, отвлекаясь от воспоминаний. Огненно-рыжую голову поднял. Невдалеке над городом прогрохотало – в голубовато-фиолетовых тучах просверкнула яростная молния.
Воспоминания о родимой реке натолкнули его на печальную мысль о родителях. «Давненько не звонил я, не писал» – подумал Алексашка, нахмуриваясь.
Последние два года отношения с родителями стали натянутыми. Всё больше понимая, что не прав, он не мог переломить гордыню – позвонить родителям или чиркнуть два-три слова своём житье-бытье; родители даже не знали, что он развёлся. – А вот сейчас приду и напишу, – пробормотал, – самую лучшую марку приклею.
Закатное солнце тем временем врезалось куда-то в каменную щель на горизонте – горы вспыхнули, как скирды, задымились тёмно-синими и зеленоватыми дымками, задрожали, теряя привычные свои очертания, и словно отодвинулись подальше от земли, поближе к небу.
Алексаха допил, что осталось – чекушку забросил в полынь под берегом, и широким твёрдым шагом двинулся в сторону своей пятиэтажки. Но пройдя полдороги, не удержался от какого-то щекотливо-сатанинского соблазна – свернул сначала к дому, где ещё не спали, где пели и плясали после телеграммы.
Постоял, послушал. Неопределённо хмыкнул. Шумно сплюнул под ноги. А потом зачем-то подвернул к той пятиэтажке, где тоже горели окна, только там было тихо, а если вдруг что-то услышится – это будет, скорее всего, сдавленный крик или стон.
Захмелевший доставщик молний с одинаковым спокойствием смотрел и на эти окна и на те. И так же спокойно он слушал задушевные песни, которые пели после полученной телеграммы, или чьё-нибудь полночное страдание. И ни в том, и ни в другом доставщик был не повинен – он просто делал то, что положено.
Приходя в свою невзрачную берлогу, он первым делом включал музончик. Под сурдинку звучал саксофонический Дюк Элллингтон, роскошно разливалась Элла Фицджеральд, обладательница уникального голоса с размахом в три октавы.
Английским Алексаха не владел, так только – понимал два-три слова из двадцати, но всё равно ему нравилась эта мастерица голосовых изумительных импровизаций.
Потом в тишине Стародым доставал альбом с коллекционными марками – всегда так делал на сон грядущий.
Бережно перелистывал тяжёленькие страницы, загорался глазами и самодовольную улыбочку растягивал. Вспоминал жену, которая в сердцах частенько передёргивала отчество. Александр Артамоныч был для неё – Охломоныч. «Считает меня неудачником, говорит, что я маленечко того… – размышлял Стародым. – Сколько раз я пытался ей втолковать, что дорогая стоимость почтовой марки объясняется чаще всего наличием брака, допущенного при печати. И примерно так же дело обстоит с людьми. У всех у нас имеется какой-нибудь брачок, допущенный при печати на полночной кровати». Закрывая заветный альбом и зевая, филателист подрубленным деревом падал на пружины жёсткого дивана и мгновенно вырубался, как человек с чистой совестью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу