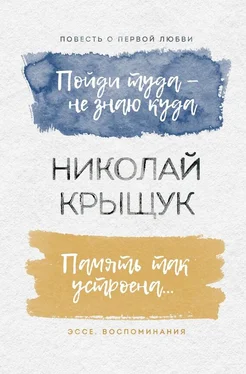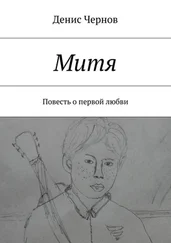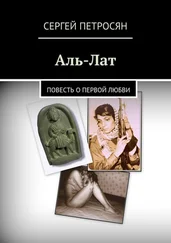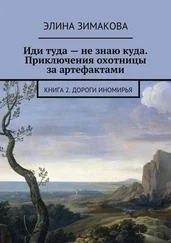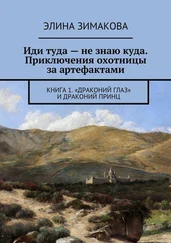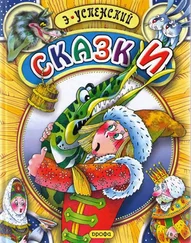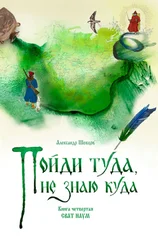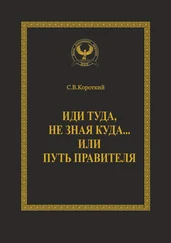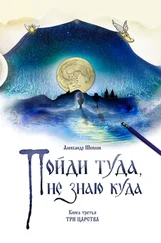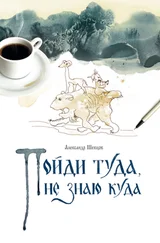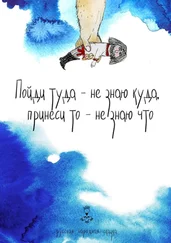Затруднение, которые испытывает каждый, пытаясь как-то очертить и определить сделанное в литературе Лидией Яковлевной Гинзбург, понятен и мне. Сказать о предмете, которой посвящены ее книги – психологическая проза, русская лирика и так далее, значит не сказать почти ничего. Так в советское время было принято подразделять писателей на маринистов, деревенщиков, фронтовиков – пустое занятие. Мысль ее послана гораздо дальше, как у любого настоящего писателя. При этом Гинзбург владеет инструментами всех доступных ей гуманитарных наук. К ней, как и к Розанову, трудно подобрать определение: историк, литературовед, социолог, философ, бытописатель, мемуарист, критик, культуролог, психолог, публицист? Дело не в предмете, а именно в этой инструментированности, в синтезе средств и целей. Тут можно вспомнить автора иконологического метода в искусствознании Панофского, который утверждал, что «если историк хочет понять внутреннее единство каждой эпохи, он должен пытаться открыть аналогии между такими внешне различными явлениями, как искусство, литература, философия, социальные и политические течения, религиозные движения и т. д.». До ХХ века, правда, не в академическом, а так скажем, в дилетантском или прикладном варианте (основными инструментами являлись все же интуиция и воображение) это было присуще, действительно, только художественной прозе.
Отсюда и наша растерянность, вызванная отнюдь не только терминологическим педантизмом. Это проблема не столько жанровая, сколько философская. Работы Гинзбург оказали и будут оказывать мощное влияние на науку о литературе, человеке и обществе. Они еще больше приблизили нас к тайне искусства, к тайне человека и человеческого поведения, показали истоки его, лежащие в культуре. Но показали и предел этого проникновение, за которым открылось поле действия уже исключительно искусства. Лидия Яковлевна знала этот предел и сознательно за него не переходила и в дневниковых записях и в анализе текста, отвращаемая запахом шарлатанства или же сумасшествия.
Она еще в юности сделала выбор, а всякий выбор, понятно, накладывает и определенные ограничения. Ей был чужд складывающийся на ее глазах и унаследованный от русской литературы «тип интеллигента с надрывом (душевные глубины, крайняя автопсихологическая заинтересованность, перебои психического аппарата, которые сразу эстетизируются)…» Характеристика, как всегда у Лидии Гинзбург, точная и убийственная. Хотя, если отрешиться от оценочного момента, мы найдем произведения замечательные, может быть, гениальные, которые этой характеристике соответствуют. Но выбор сделан. И не только личный, но исторический (у Гинзбург это непременно так): «этот унаследованный склад оказался решительно не к истории».
Безупречность, завершенность наблюдений и характеристик Гинзбург мешает порой увидеть их историческую и биографическую подоплеку. А она, несомненно, была. Так очерчивались границы ее притязаний в собственном словесном творчестве, так определялся круг ее научных интересов.
Поэтому был материал в литературе, который не давался ей как аналитику. К таким я отношу прозу и поэзию Мандельштама. Гинзбург очень на многое в творчестве Мандельштама точно указала, но проникнуть по-настоящему как исследователь не смогла. Чувственное тепло вещей, инфантильность, при всем-то классицизме, домашность, эстетическую игрушечность, портативность образов и неразъемность метафор. Она предупреждает, что тесную ассоциативность мандельштамовских стихов не следует смешивать с заумной нерасчлененностью. И это, разумеется, справедливо. Но при этом, используя формулу Блока «слова-острия», пытается объяснить мандельштамовскую поэтику, и материал незаметно обезличивается, рассыпается. Такие стихи мог писать и Блок, и Пастернак, собственно, от Мандельштама в них остаются темы, культурные ориентиры, биографические мотивы, внетекстовые ассоциации, вроде цветаевской шубки (у Блока тоже, кстати, была строка о шубке: «Звонят над шубкой меховою…», и шубка была Любина, но что это объясняет в поэтике одного и другого?).
А что делать с «колтуном пространства», с «комариным князем», с «белым керосином», с «картавыми ножницами» и с многим другим, что никто, кроме Мандельштама, написать не мог. Гинзбург говорит, что у Мандельштама есть непонятные стихи, хотя их и не так много. Но вопрос: почему и непонятные стихи действуют на нас, как будто мы их все же понимаем, но как бы сквозь смысл, помимоего? Иллюзия рационального объяснения только запутывает дело и множит вопросы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу