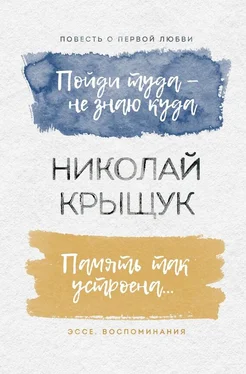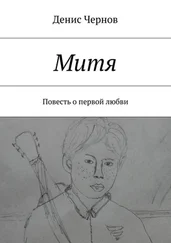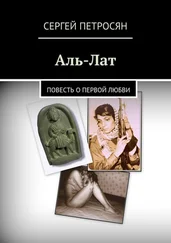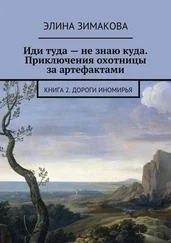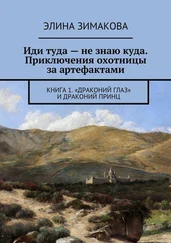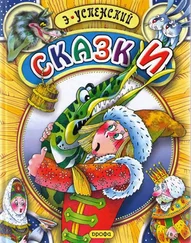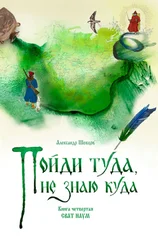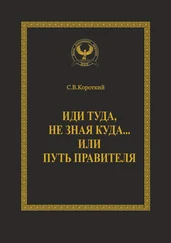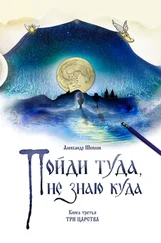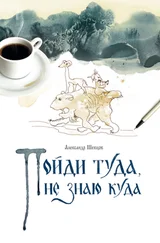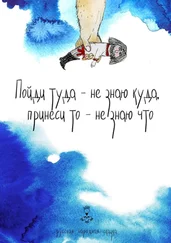…Казалось бы, ничего нет обыкновеннее, чем говорить естественным голосом о том, что составляет событие жизни частного человека. Между тем это была революция, и произведена она была одним человеком.
Нужна была правда как бы бессобытийной жизни, которая в силу любви и сострадания, оборачивалась событием. Как и во времена Чехова, это называлось мелкотемьем, приземленностью и пессимизмом. Во времена же Володина – еще и клеветой на советского человека. Другого требовала эпоха в лице партийных вождей. Если у Чехова „герои пили чай и незаметно погибали, то у нас герои пили чай и незаметно процветали“».
Объяснение вроде бы достаточное. Но сейчас меня удивляет и огорчает то, что мы больше ни разу в течение нескольких десятилетий не возвратились с Александром Моисеевичем к разговору о Чехове. Странно.
Закончу коммунарскую главку. Вышел фильм «Звонят, откройте дверь!», ради которого Володин и отправился в командировку к нам. Фильм замечательный, однако, к жизни и проблемам коммуны он не имел никакого отношения. Становление нашей демократии (говорю без иронии) Володина не волновало. Общался он с коммунарами, которые были старше героев фильма. Значит, и любовную историю вряд ли подсмотрел в общении с нами. Для сюжетного оформления ему хватило следопытских пионерских поисков героев последней войны. Такое движение, действительно, было, разворачивалось оно в основном на площадке «Ленинских искр», и возглавлял его член коммуны Саша Прутт, по роли – «Генка-ординарец». Но коммунары не были следопытами. Мы начали строить в деревнях памятники погибшим на войне значительно раньше, чем государство вспомнило о них и объявило 9 мая государственным праздником. Это правда. Но никаких азартных поисков ветеранов и слезоточивых встреч ними. Деревянные стелы открывали в деревнях в 4 утра 22 июня. Собиралось все село. А уж тут слезы, слезы, конечно.
В фильм перешли речевки. Но как в фильме, так и у нас, это была скорее цитата из 20-х годов. Никто, кроме нас, в 60-е годы с речевками уже не ходил. Да и у нас они были не только тупо-бравурными. Если сделать скидку на жанр, то и совсем не бессмысленными. Например: «Правда, но без громких фраз. Красота, но без прикрас. И добро не напоказ. Вот что дорого для нас».
Объяснение этого транзита через коммуну, на мой взгляд, лишь одно. Опора художника на реальность – романтический советский миф. Как и изучение жизни. Какие-то реалии, да, необходимы. Но художник отвечает только перед своим замыслом. И внимателен и избирателен только по велению внутренней установки. Пчелиный труд. Никакого охвата жизни в целом, что в житейском плане и невозможно. Целое выстраивается из части и соответствует представлению о целом, чувству целого, в чем, собственно, и заключается дар.
Даже и собственная жизнь в эмпирическом плане – не первостепенный или, во всяком случае, недостаточный материал. Иначе, как объяснить, что война не нашла никакого отражения в пьесах и сценариях фронтовика? Только внутренний опыт, только избранное из внутреннего опыта. Биографы зря стараются.
* * *
Встретились мы вновь через много лет, когда у меня уже вышла первая книга, а Володин переселился в театральный дом на Пушкарской. Соседом его был мой друг Саня Григорьев, читавший литературные лекции в Ленконцерте. Александр Моисеевич часто заходил к нему за книгами, так и завязались отношения, а потом и дружба.
Однажды он позвонил, когда мы с Саней были вместе. «Выпиваете? Я сейчас буду». Пришел с бутылкой. Я напомнил ему наше знакомство в коммуне. «О! Помню, все очень хорошо помню. Фаина Яковлевна».
В тот день он пришел тоже с внутренним заданием. Его интересовало, как делаются переводы? А если языка не знаешь? Подстрочник? Это что? Но разве можно по подстрочнику верно перевести? А еще ведь рифмы, рифмы!
Доставали книжки, читали, сравнивали. Про себя подсмеивались над его простодушием и дилетантством. В значительной степени, наигранными. Ему нужен был именно горячий мусор филологических разглагольствований. И он его получил. Писался сценарий «Осеннего марафона».
О сценарии не было, конечно, помину, как и об истории, ему предшествовавшей. Но именно в эту пору я часто наблюдал «осенние марафоны» Володина из окна квартиры моих родителей на Белградской 16, где жила мать его второго сына. Он шел немолодой уже походкой, с отвлеченным лицом и целеустремленностью незрячего. Мимо людей.
Мы стали встречаться чаще. В квартире не только Григорьева, но и Володина, в Комарово, на писательских и театральных тусовках. В нем как-то сочетались азарт и меланхолия, вспыльчивая рефлексия, приязнь и отстраненность. Однажды он дал нам прочитать пьесы «Две стрелы» и «Мать Иисуса». Это был жест доверия – о появлении их на сцене театра не могло быть и речи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу