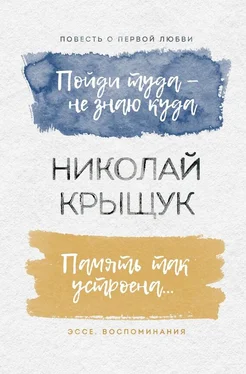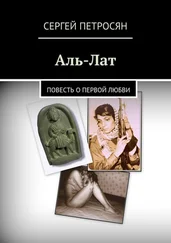Для справедливости надо сказать, что эта бестактность была, скорее всего, спровоцирована манерой Володина держаться в незнакомой компании. Наш руководитель, Фаина Яковлевна Шапиро, человек остроумный и проницательный, говорила про него с любовным почти восторгом: «Александр Моисеевич хитрый! Таким простачком ходит. В ленинградской кепочке. Скажешь какую-нибудь глупость, а он восхищается. Мне кажется, если я признаюсь, что не читала Шекспира, он тут же ответит, что тоже плохо знаком с этим гением. Хочет, чтобы человек чувствовал себя естественно и уверенно. Понимает, что при такой раскрепощенности, если перед ним самовлюбленный плохиш, глупость, наглость, мелочность и хамство поползут сразу из всех щелей. А он наблюдает, смотрит и, кажется, доволен, что его манок, в который раз, сработал».
К этому свойству бытовой режиссуры, которым в совершенстве владел Володин, я еще вернусь. Хотя он совсем не был холодным естествоиспытателем. Провокатором, может быть, но тоже не холодным. Пока же скажу, что в подобной ситуации так повел бы себя всякий грамотный наблюдатель, имеющий целью собрать материал для пьесы, очерка или романа. Проницательность скрыть под ординарностью поведения. Стать своим, желательно незаметным и определенно бесконфликтным. О твоем присутствии должны как бы забыть. Похоже на технику ловли раков.
Однажды мы устроили с Александром Моисеевичем настоящую творческую встречу (не все же чаи и бытовые разговоры). Он рассказывал о своей жизни, о театре, читал Пастернака. Почти все им рассказанное я нашел потом в «Оптимистических записках», напечатанных, кажется, в «Дружбе народов». Но в разговоре он был еще откровеннее. Не потому, что у него было преувеличенное представление об аудитории, и не из желания эпатажа, разумеется. Он всегда был таким, не зависел от качества аудитории или собеседника, не искал общего языка, даже не понимал, я думаю, что это за процесс такой.
В частности, он рассказал, как уговаривал Товстоногова не ставить на роль Татьяну Доронину в пьесе «Моя старшая сестра». Она замечательная актриса, говорил он, но человек по природе не добрый. Нельзя ей играть эту роль. Товстоногов, как известно, его не послушался. Потом Доронина сыграла эту роль еще и в фильме, и прекрасно сыграла. Но и эта, как бы излишняя откровенность Володина запомнилась навсегда. Может быть, как подтверждение существования невидимого, но жесткого мостика между искусством и жизнью.
Кажется, позже Александр Моисеевич писал об этом мягче или иначе. Изменилось отношение или сказалась живущая в нем боязнь обидеть человека? Не знаю. Я намеренно не перечитываю, делая эти записи, автобиографических текстов Володина. Чтобы не внести невольно коррективы в собственное воспоминание. Как-то давал интервью одной газете. Через несколько часов журналистка перезвонила и обескуражено сказала: в своих книгах Володин и об этом пишет не так, и об этом, и об этом. Ну, что делать?
Причины такого разночтения могут быть разные, не мне их разбирать. Но я пишу о том, что помню. Иногда эту память разделяют со мной еще сколько-то человек. Пусть это была не твердая позиция, а только минутное высказывание. Кто, впрочем, может знать: что – что? Но сама память на эти высказывания свидетельствует, мне кажется, об их существенности.
После того вечера мы с моим другом Аней Андрюковой, с которой вместе в то время сочиняли повесть, догнали Володина на лестнице. «Александр Моисеевич, а ведь ваши пьесы идут от Чехова. Правда?» Он хмуро ответил: «Я не люблю Чехова». Тогда я почувствовал, сколь твердо дно этого человека в кепочке, подхватившегося бежать за хлебом для молодняка.
Впервые я рассказал об этом эпизоде на страницах «Звезды». Процитирую свой комментарий, чтобы не впадать в искушение искать новые аргументы: «Действительно, с Чеховым его роднит разве то, что оба они были не слишком высокого мнения о людях. Как и Чехов, Володин прикрывал острую наблюдательность мимикой сострадания и улыбки. Но время все же было иное, и состав трагедии иной.
Теперь его чем дальше, тем больше сравнивают с Чеховым. Так и пойдет. Мертвые беззащитны. Надсадная эпоха, баритонный пафос, елейные голоса, уклончивый язык. А он во всем, что писал, никогда не повышал голоса, говорил о важном и никогда не философствовал, не призывал – манил… естественностью, честной интонацией, расположенностью. Его герои говорили своими голосами о своей жизни. И мы почувствовали вдруг себя людьми, а не мусором, путающимся под ногами героев и псевдогероев.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу