Столько следователей по особо важным я в жизни своей не видел и надеюсь больше не увидеть. Из Москвы умники приехали. Карантин. Особая зона. Все такое.
Нас троих: меня, Шурку (фамилию забыл) и Андрея Антюхина таким вниманьем окружили, что впору повеситься. Правда, вывозить никуда не стали, проводили с нами эксперименты. По минутам заставляли вспоминать всю жизнь.
Выяснили, что у покойного Хендрикса были замечены случаи лунатизма, что Бальчик с Андрюхой на Периксу щенков втихаря продавали. Меня раскололи на детский онанизм, а Шурик признался, что в пятом классе несколько раз подворовывал. Крал книги в букинистическом магазине. Прочитывал и тайком возвращал. У Антюхина, кроме всего прочего, отобрали порнографические открытки и два презерватива, которые, по-моему, остались у него еще с гражданки. У него же изъяли самодельные стихи, три полных самой трепетной любви письма на родину, адресованных трем разным женщинам, и зачитанный сценарий «Андрея Рублева». После всех официальных допросов с нами поговорил по душам прапорщик Тимофеев, и Шурке досталось по харе два раза.
Утром, как всегда, падал снег. И мы кормили собак, которые после дезинфекции стали нервные и злые.
В начале марта, прямо на моих глазах потерял сознание Андрей. Увезли его куда-то к чертовой матери, где он к вечеру и скончался. После этого наша с Шуриком служба закончилась. Нас изолировали в инфекционке, окна которой выходили на городской парк. Не могу сказать, что мы с ним сильно переживали. Не знаю, может, самую малость. Как-то надоело все. Спали, анализы сдавали каждый день. Крови из нас высосали — море. Кормили хорошо. Книжки давали читать. В конце марта наступила весна.
— Знаешь, — сказал мне Шурик, — не хочется мне уже домой. Понимаешь? Нет никакого дома. Да и не было никогда. А вот в лес хочется. Там сейчас весна зазвенит, скоро грибы пойдут, малина. Сосны качаются в небесах, как зеленые паруса.
После смерти Шурки меня стали срочно комиссовать. На кой им шестой труп за полгода? Ехал я на верхней полке, как король на именинах. Поля мелькали, станции, города разные.
А ночью мне снился белый снег, который падает и падает из пушистого низкого неба. И мы шестеро, веселые, на лыжах идем по нашей колее от старой бани через ельник, а там и дальше, на север, к желтому шлагбауму. А снег хрустит, и ветра нет, и это не кончится уже никогда.
Пирамидон
Шабашил Влас в Питере. Делал хозяевам евроремонт. А человек он сходчивый. Скажем просто — хороший.
И случился у Власа знакомый вор. Звали его Пирамидон. Был он человек до болезненности честный, да к тому же заикался. Украл этот самый Пирамидон где-то большую картину. Веласкес. Подлинник. Ну, положим, Влас не знал, что это подлинник. Однако же это не избавляет. Так ведь? К тому же, по пьяной лавочке взял и подарил Пирамидон Власу этого самого Веласкеса. История.
Проснулся рано утром Влас и понять ничего не может. Висит на стене Веласкес.
«Ну, — думает, — приплыли. Я картины стал по пьяни рисовать».
Встал, умылся, опохмелился. Глянул на картину по-новой.
«А ничего, — подумал Влас. — Немного темновато сработано, но зато техника какая! Во, блин, — думает он дальше, — так какого, извините, хрена, я ведь Пушкин, хлоп меня по голове! Я ведь гений, трах-тибидох!»
Купил красок себе, холстов разных, натурщицу нанял. Все путем. Сел против холста и смотрит на голую бабу, кажется, ее Анжелой звали в народе.
Смотрел он на нее, смотрел и говорит:
— Слушай, золотко, помаши задницей, а то я не нагреваюсь.
Ну, Анжеле махать, так это же другое дело.
Махнула раз, махнула два. Влас привстал и говорит:
— Хорошо, но, знаешь, солнышко, интенсивнее, интенсивнее.
Анжела, конечно, взялась с полным пониманием дела.
В общем, приходит Пирамидон вечером, а тут пентхауз с элементами Бородинской панорамы.
— Ша, — говорит Пирамидон. — Где мой предмет искусства? Власик, ты, по-моему, пьян?
— Дорогой друг, — сказал на это Влас, — я разочаровался в творчестве, но пришел к пониманию дела.
— Ага, — сказал Пирамидон. — Рисование пробовал?
— Пробовал, — весело сказал Влас, — но оказалось, что рисовал не я.
— Не переживайте, мой друг, — утешил Пирамидон, — я тоже так не умею.
Боже сохрани
Эльза Матеус, Власова домохозяйка, вставала по утрам рано и принималась громко петь, заявляя свою состоятельность как женщины, так и певицы. Влас сразу не просек, что это не похмельный синдром, а старческий маразм. Когда же осознал полной мерой, было, как говорят в народе, без пяти сорок семь.
Читать дальше
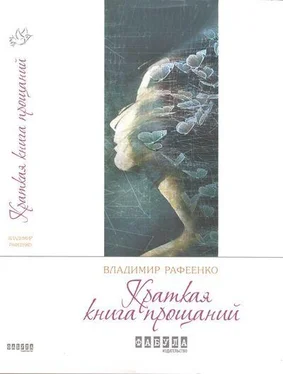


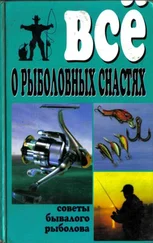
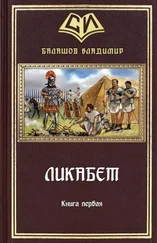
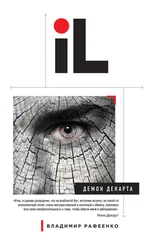
![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/182775/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal-thumb.webp)



