Один — выходец из малой Азии, Гималаев, Северной Африки, Ирана. Второй — безлошадный кабальеро, сперва перебравшийся в Штаты, а затем отправившийся навстречу декадансу в вечно гибнущую Европу в трюме с гнилым картофелем, дурным виски и китовым жиром…
Прорисовав всю ночь до утра, в каком-то полусонном трансе девушка смотрела в сторону, за окно, на раннюю, трудно начинавшуюся весну. Видела город, кусок степи, синие пруды и звонкое небо, в котором дрожала, переливаясь, мертвенно-бордовая нота войны. Похмельные Вересаев и Гредис на минутку заглядывали в ее комнату, чтобы поторопить, но робели. «Пусть ее!» — думали, убегали, плотно притворив за собой дверь. Гремели на кухне кастрюлями и сковородками. Дымили папиросками, приоткрыв окно, поглядывали на часы, прислушивались к далекой канонаде. Вторник, раннее утро. Надо отправляться в баню.
* * *
В «Пятом Риме» особенно хороши именно выходные вторники. Посетителей в этот день нет. В одну из распахнутых настежь фрамуг просунула свою ладонь — тополиную ветку — умершая тетушка Каролина, старая пророссийская сука.
— Хватит сидеть без дела! — кричит она ртом, раскромсанным колорадскими жуками, зачерпывает длинными ветвями с неба облако, полное ангелов, снега и синевы, и бросает его в лицо Лизе. Та фыркает, улыбается и поводит плечами. Тетя морщится, выдувает трубочкой губы, шипит вполголоса, матерится.
Все умывальники высокие, а один низкий. Лиза, улыбаясь, чертит пальцем по запотевшему стеклу зеркала, висящего над низким умывальником. Альбом открывается, и становится ясно, что низкий умывальник здесь нужен потому, что в баню иногда заходят особые люди. Мужчины и женщины, они приходят в баню в сумерках. Это нибелунги, дети тумана, живущие в шахтерских выработках глубоко под землей. Им нужно где-то мыть руки. Сначала они подходят к одному из высоких умывальников. Но сколько ни прыгают, до края не достают. Попрыгают-попрыгают и успокоятся. Грустно постоят, посмотрят на объективное положение дел и отходят к маленькому умывальнику для маленьких людей. И здесь уже отмывают руки, которые не крали, длинные уши, которые не слушали, а также усталые сердца, которые никогда никого не любили. И уходят спать на чердак. Им на чердаке спокойнее. Низенький умывальник нужен для них.
Во вторник в бане никого. Тишина. Во вторник здесь чисто и уютно. Тихо, мирно. Ты можешь расслабиться и забыться во вторник. Баня защитит от военных забот, от ненависти и утрат. Немолчная песнь воды и пара погружает в покой, которого нет больше нигде. Рассыпающееся эхо стирает грань между реальностью и мечтой. Уходят обиды. Пропадают, как и не было их, дурные поступки. Ты украл, убил, ударил мать? Просрал Крым и Донбасс? Нарисовал смерть тети? Нацист? Оккупант? Гоблин? Сепаратист с кислотой вместо крови? Ангел Обама, Барака Меркель, Путин-Проект? Йошкин кот? Первый нах?
Забудь. Ничего этого нет. Лишь ветра свист, лишь пара гул, лишь водяная капель.
Прислушайся. Открой сердце свое! Внемли! Бог и банное эхо сделают бывшее не бывшим. Совесть уснет. Сложит усталые черные крылья. Опустит в дубовую шайку клюв, привыкший рвать сырое мясо. Пусть отмокает. Всем воздастся, конечно. Но только здесь, где завязи всех миров дрожат, как зеленые виноградины в жемчужной паутине, ты сможешь, наконец, отдохнуть…
И весь огромный день впереди! Выпив с Колей, Сократ закурит на крыльце, а потом они вчетвером медленно побредут домой. Их дом — наискосок через дорогу за ближайшими высотками, а потому пьяный дядя или трезвый — не имеет значения. Случится минометный обстрел или нет, идти недалеко. Да и что такое пятьсот-семьсот граммов водки, выпитых в военное время под звуки далекой канонады? Вересаев вслед за профессором не станет молчать, они станут говорить, не умолкая. Ибо им есть, что сказать. Ибо только слово по-настоящему бережет и лечит. Ибо только в слове ты обретаешь навеки утраченный дом.
Нет больше покоя в городской тишине, как нет и самой тишины. А если вдруг и воцаряется она в Z на час или два, то пугает больше обстрелов. Перемирие — плохой знак с тех пор, как на этой земле одни люди убивают других.
Ну как это происходит? В альбоме просыпается человечек с ручками и ножками. Он берет маленький смешной автоматик и стреляет. Пули повисают на листе ватмана длинным жирным рядом дефисок. А с той стороны стоит другой человечек. Он точно такой же. И в руках у него тоже автоматик. Но он — лузер. Принялся стрелять из своего оружия на полторы секунды позже первого человечка. Почему? С похмелья случается такое. После любви или наркотиков. С устатку. Или когда не вовремя вспомнишь Иисуса, который настаивал, что людей, пусть даже неумело нарисованных, убивать нельзя.
Читать дальше
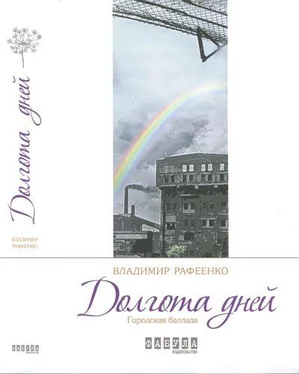

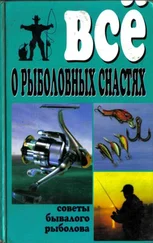

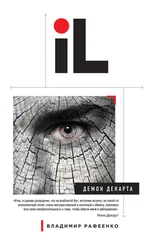
![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/182775/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal-thumb.webp)




