— Враг пошатнулся и ищет путей выйти из борьбы, — говорил Сазонов. — Наша победа близка, ваше величество!
— «Победа близка…» — передразнил его Распутин. — Мало ему, окаянному, русской крови пролито! А что в победе-то? Французам будет, не нам.
За несколько дней до Пасхи получено письмо из Глогница, адресованное прямо царю.
«О, если бы пасхальный звон возвестил и мир!» — писала Васильчикова. К ней опять приехали «трое». Германия и Австрия желают мира с Россией. Падение Перемышля окончательно делает царя победителем, и заключение мира с побежденным врагом не накладывает на его честь ни малейшего пятна. А союзники, Англия и Франция, уже строят ему козни. Из секретнейшего источника известно, что Англия намерена оставить себе Константинополь и создать в Дарданеллах новый Гибралтар. Японии она обещает Маньчжурию.
«Мы просим русского государя произнести слово „мир“, и ему пойдут навстречу; и вопрос о Дарданеллах решен будет, конечно, не в пользу Англии».
На другой день Пасхи под колокольный звон появилось сообщение о казни через повешение подполковника запаса армии Мясоедова. Ни в печати, ни в официальных речах имя военного министра не упоминалось, но он знал, что казнь Мясоедова — это его казнь. Министр стал реже показываться в обществе, запустил ведомственные дела и думал только о том, как бы излить душу самому государю. Но государь предался поездкам и не приглашал его в свой поезд.
Склонность к принятию неразумных советов была фатумом императора Николая II.
Когда Спиридович, начальник дворцовой охраны, получил приказание спешно выехать в столицу Галиции, все поняли, что великому князю и Янушкевичу удалось уговорить царя на поездку туда. Общий голос был: «рано». Так говорил и старец Григорий.
Ко дню рождения государя, дню наград и милостей, полковник Спиридович произведен в генералы. Рад был не столько генеральскому чину, сколько снятию чертова клейма жандармского офицера. С выходом из корпуса жандармов и с зачислением по армейской пехоте он становился кандидатом на какой-нибудь высший, недворцовый пост, вроде ялтинского градоначальника, на который его прочили.
Вызванный к военному министру для оформления своего нового положения, он уже в приемной министерства почувствовал особенное. И адъютант, подошедший спросить, как доложить, и писарь, заносивший в книгу посетителей, и генерал Вернандер, вышедший из кабинета министра и просивший подождать несколько минут, говорили каким-то смиренным голосом. Все ведомство работало с видом невинно пострадавшего.
Когда пригласили в кабинет, министр встал, сделал шаг от стола и с любезной миной поздравил гостя с царской милостью.
— Рад вас приветствовать. Императорский поезд, пассажирами которого мы так часто бывали, сделал нас своими людьми. Дай Бог вам служить государю так же успешно, как служили до сих пор.
Спиридович давно изучил внезапные изменения сановных лиц, надменных во дни благоденствия и униженно заискивающих при служебных катастрофах. Сухомлинов откровенно заискивал. Спиридович, правая рука Воейкова, представлял редкую возможность довести министерские скорби до дворцового коменданта, а через него — до царских особ.
Проделав оформление нового генерала по армейской части в десять минут, он заставил его полтора часа выслушивать излияния своей наболевшей души.
— Я, Александр Иванович, осажденная крепость. Вот уж восемь месяцев выдерживаю штурм. Не только Дума, Ставка и преданная им печать рисуют меня злым духом, чуть не изменником, но в народ, а всего обиднее, в армию пущены такие же слухи. Достигли, кажется, того, что в России нет более зловещего имени, чем Сухомлинов. А за что? Снарядов нет? Верно. Но военные заводы не подчинены мне. Сколько раз поднимал я вопрос об их мобилизации! Какие-то силы всегда противодействовали. Или Главное артиллерийское управление…
Могу ли я приказать или требовать чего-нибудь от стоящего во главе его великого князя, интимною друга государя? Он никому не подчинен, и мы не знаем, что творится в стенах его ведомства. Но что бы ни творилось, в ответе за все я. Снарядов не выделывают — моя вина, пушек нет — я не приготовил. А с него — никакого спроса.
Сухомлинов так долго говорил о своем горе, что Спиридович и десятой доли его речей не надеялся довести до сведения дворцового коменданта. Покидая его кабинет, чувствовал, что захлопывает дверь за человеком конченым.
Читать дальше







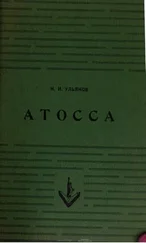

![Георгий Смирнов - Город Сириус [litres]](/books/400159/georgij-smirnov-gorod-sirius-litres-thumb.webp)

