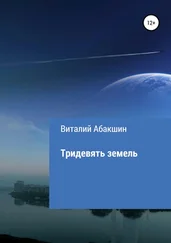И всё же тень равноправия уже и тогда витает меж враждующих родов и племён и закрадывается в умы, и мы имеем основания предположить, что тридцать столетий назад пастухи в фессалийских горах, слушая под треск горящих можжевеловых сучьев о том, как победитель Ахилл надругался над телом Гектора, были удручены не меньше, чем современный читатель, останавливающий глаза на этих строках…
«Не притесняй и не обижай переселенцев – ведь вы и сами были переселенцами в Египте. Не притесняй вдов и сирот. Если вы будете их притеснять, то они воззовут ко Мне – Я услышу их жалобы, разгневаюсь и поражу вас мечом» (Исх 22:21). «Если берешь у ближнего плащ в залог, то верни до захода солнца – ведь ему больше нечем укрыться, это его одежда. Как ему спать без нее? Он воззовет ко Мне – и Я его услышу, ибо Я жалостлив » (Исх 22:26).
Библейская критика имеет разные точки зрения на время возникновения Книги Завета, однако кто бы ни был автором этих слов и когда бы они ни были записаны в качестве наставления, это не могло произойти позднее IX-го столетия до рождества Христова, а значит, перед нами, возможно, первый образец такого рода мышления. Таким образом, впервые в законодательствах мы встречаем здесь случай, когда чистая нравственная норма выступает одним из источников права. В чувстве сострадания нам открывается глубокая истина о тождестве в основе всего, вне нас сущего, с нашим собственным существом…»
Из подвалов все вышли весёлыми, даже излишне возбуждёнными, и от той напряжённости, которую создал было Борис своей намеренной бестактностью, не осталось и следа. На прощанье каждому гостю Георг вручил по пакету, в которых было по бутылке сильванера и шпетбургундера.
* * *
Поведение Бориса расстроило всех, и если бы не присутствие Моники, то ему пришлось бы выслушать не один упрёк.
Здание, служившее гостиницей, вырастало из реки. Серая стена отвесно окуналась в безостановочные воды, и днём были видны камни, поросшие зелёными водорослями.
Уже заполночь Борис забрёл в номер Жанны, и она не особенно удивилась.
– Ишь ты – Эль-Аламейн, – усмехнулся Борис. – Где это, кстати?
– Не знаю, – равнодушно ответила Жанна. – Где-то, значит, есть…
Она наблюдала за Борисом со смешанным чувством брезгливости и нарастающего желания. Спокойная, изящная обстановка требовала красоты и романтики, которые не назовешь распутством, но она ощущала в себе нарастающее неистовство самки, увлажненное неуправляемой первобытностью. Это немного беспокоило и смущало её, но и распаляло, и некоторое время она испытывала неподдельную растерянность, какому из этих противоречивых ощущений отдать предпочтение.
– Не пей из горлышка, – поморщилась она. – Вот же бокалы есть.
Борис послушно налил себе в бокал, а бутылку поставил на пол. Выпускник факультета журналистики (кафедры информатики и управления) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, он недурно владел английским, но едва слышал о Роммеле, и ровно ничего о Монтгомери.
– Эль-Аламейн, – сказал еще раз он, тупо глядя на жидкость, которую собирался влить в себя одним махом. – Врёт, гад. Небось папаша его Сталинград бомбил. Эх, не добили мы их, гадов… – Борис хотел облечь свои мысли совершенно другими выражениями, которыми он, главным образом, и привык изъясняться, но то романтическое, что намечалось между ним и Жанной, сдержало его бранный порыв.
Жанна смотрела на него задумчиво. Занавеску из лёгкой кисеи шаловливо трогал ночной ветер. Внизу, прямо под открытым окном сосредоточенно бурлили речные волны…
* * *
Борис ничем не удивил, скорее даже разочаровал, но атмосфера с грехом пополам восполнила те таланты, которыми он был обделён. Во всяком случае, внешность его и бесцеремонная манера держаться обещали много больше. Делиться он не умел совсем, но и брал как-то жадно и неаккуратно…
Борис увидел свет в год Московской Олимпиады в семье офицера госбезопасности. К этому времени офицер стал уже генерал-лейтенантом. После многочисленных чисток, которым подвергалась эта организация с момента распада советского строя, отец Бориса непостижимым образом сохранял своё положение и только возрастал в званиях. В конце девяностых его перевели из Петербурга в Москву.
Судьбу сына он связывал исключительно с государственной службой и даже не понимал, как можно помышлять о чём-то ином. Люди, жившие другим образом, не желавшие твёрдо и определённо заявить: "государство – это я", казались ему какими-то недомерками, непричастными настоящих тайн, лишёнными подлинного качества и вовсе не достойными обладать теми правами, которыми их сдуру наделяла Конституция. Беседы умников, рассуждающих на подобные темы в расплодившихся телепередачах, он следил сначала с недоумением, потом с презрительной настороженностью, которая однажды к его огромному облегчению увенчалась настоящей ненавистью, слегка припорошённой приличиями. До конца постичь их мотивы он был не в состоянии, и следовал здесь надёжному правилу: самое простое объяснение всегда самое верное. Слово "почти" мешало, как путается в ногах брошенный ветром газетный лист, вносило в мысли аляповатость, а потому подверглось изгнанию из его лексикона. Ему нравилась песня Олега Газманова "Офицеры", и когда на профессиональных праздниках звучали её слова: "офицеры, ваше сердце под прицелом… офицеры, россияне, пусть свобода воссияет", когда фразы падали в зал гроздьями лести и зал вставал, не в силах вынести их справедливую тяжесть, когда в унисон звучали сердца, бессмыслица текста рождала в нём гордость и покой, на смену которым внезапно приходила тихая, беззлобная, как октябрьское солнце, жалость к себе, и бывало, глаза его увлажнялись. Эти слова заставляли его переживать недооценённость своих заслуг, однако не со стороны начальства, а со стороны неблагодарного, вздорного общества. Вот он стоит на страже свободы, один за всех, но горлопаны не желают этого видеть; утешение можно было найти только в осознании собственного бескорыстия, неколебимого служения, бесконечного следования долгу, и в итоге обрывки чувств слагались в почти религиозное ощущение…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







![Екатерина Мекачима - За тридевять земель [litres]](/books/385082/ekaterina-mekachima-za-tridevyat-zemel-litres-thumb.webp)