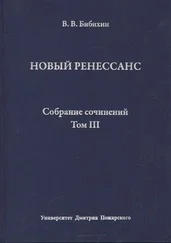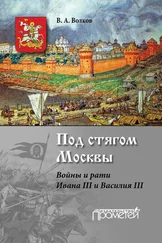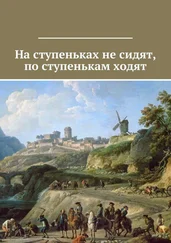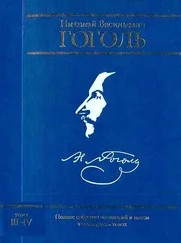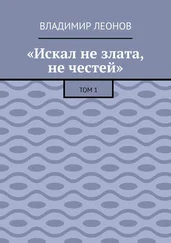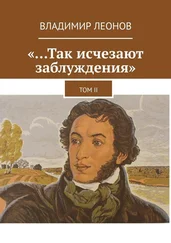«Отвратительный роман, портящий характер», «дерзостная бессмыслица» – Николай I.
«13 июня 1840 г. 10 1/2. Я работал и читал всего „Героя“, который хорошо написан. <���…> 14 июня. 3 часа дня. Я работал и продолжал читать сочинение Лермонтова; я нахожу второй том менее удачным, чем первый. <���…> 7 часов вечера. Я дочитал „Героя“ до конца и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же самое преувеличенное изображение презренных характеров, которое имеется в нынешних иностранных романах. Такие романы портят характер. Ибо хотя такую вещь читают с досадой, но все-таки она оставляет тягостное впечатление, потому что в конце концов привыкаешь думать, что весь мир состоит из подобных людей, у которых даже лучшие, на первый взгляд, поступки проистекают из отвратительных и фальшивых побуждений. Что должно из этого следовать? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего пребывания на земле? Ведь и без того есть наклонность стать ипохондриком или мизантропом, так зачем же поощряют или развивают подобного рода изображениями эти наклонности! Итак, я повторяю, что, по моему убеждению, это жалкая книга, обнаруживающая большую испорченность ее автора. Характер капитана намечен удачно. Когда я начал это сочинение, я надеялся и радовался, думая, что он и будет, вероятно, героем нашего времени, потому что в этом классе есть гораздо более настоящие люди, чем те, которых обыкновенно так называют. В кавказском корпусе, конечно, много таких людей, но их мало кто знает; однако капитан появляется в этом романе как надежда, которой не суждено осуществиться. Господин Лермонтов оказался неспособным представить этот благородный и простой характер; он заменяет его жалкими, очень мало привлекательными личностями, которых нужно было оставить в стороне (даже если они существуют), чтобы не возбуждать досады. Счастливого пути, господин Лермонтов, пусть он очистит себе голову, если это может произойти в среде, где он найдет людей, чтобы дорисовать до конца характер своего капитана, допуская, что он вообще в состоянии схватить и изобразить его».
(Из письма Николая I жене – императрице Александре Федоровне)
***
Демон
Поэма Лермонтова «Демон», 1841, берет начало из пушкинских «Демона», 1823, и «Ангела», 1827. Демон у Пушкина архаичен, традиционно зол:
«Неистощимою клеветою
Он провиденье искушал:
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо смотрел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел».
В «Ангеле» же проявляется симпатия и жалость поэта к представителю нечистой силы:
«В дверях Эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездной пролетал.
Дух отрицания, дух сомнения
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.
«Прости, – он рек, – тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не все я в небе ненавидел,
Не все я в мире презирал».
Пушкин повернул душу Демона к вратам блага, выразив его тоску по добру: демон в ангеле, противоположности своей, впервые жар умиленья познал.
Лермонтов, разрабатывая психологический тонкий и драматический образ Демона, не признает его князем тьмы, скорее, поэт мучим им. Гоголь дал пояснение: « Признав над собой власть какого – то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить образ, как бы желая стихами отделаться от него. Образ этот не вызначен определьтельно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать. Видно, что вырос он не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним».
Демон у Лермонтова филигранно выточен, со своими отличительными гранями, своей непохожестью:
1. Он чрезвычайно полифоничен, в нем отголоски представителей «адской силы», воплощенных художественно: мятежность и непримиримость – это мильтоновский Сатана; знающий и мудрый – байроновский Люцифер; прекрасный, соблазнительный и коварный – чем не герой Виньи из поэмы «Эола; по мощи отрицания – выше гетевского Мефистофеля.
2. Он беспощаден к себе и к миру, он не удовлетворен личным бытием. Навязанное ему генезисом происхождения абсолютное зло, он пытается отрицать, он жаждет идеала. Рефлексующий, сомневающийся сатана подчас человечен. Страсти в нем словно огненные потоки: любовь и ненависть, ум и страдания. Он ропшет, он противостоит Богу, воплотившем в нем зло, разрушение. Он у Лермонтова далеко не сильная, волевая личность, не романтический и таинственный злодей; он отдален от холодного и разочарованного, пусть и мудрого, но скептического Мефистофеля; Лермонтовский демон – духовное существо, жаждующее перемен, очарования, трепетных впечатлений и сладостных ощущений; он алчущее добра, любви и понимания и готов взамен этого покаяться, принять искупление. Зло выше равнодушия, оно более нравственнее равнодушия и подлости – эта мысль Лермонтова нашла отражение в и драме «Маскарад», 1836.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
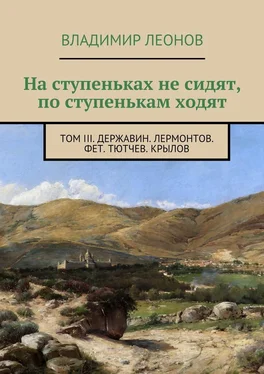
![П Джунковский - В глубь веков [Таинственные приключения европейцев сто тысяч лет тому назад. В дали времен. Том III]](/books/31262/p-dzhunkovskij-v-glub-vekov-tainstvennye-priklyuche-thumb.webp)