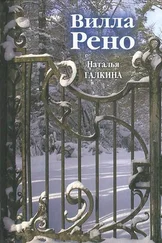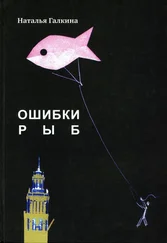Короче говоря, я рассказал сей сюжет поэту Б., тот пришел в полный восторг от предстоящей эскапады, вполне вписывавшейся в его образ поэта, обожающего погусарствовать и пошалить, и мы отправились на берег.
Николай Федорович отсутствовал. Пока Б. отвлекал Адельгейду беседами о цветах и чтением виршей, я (о ужас! только бы биографы не узнали! Сожгите это письмо немедля, исстригите тупыми ножницами в мелкую бумажную лапшу и препроводите в мусорный бак! Пожалейте автора, исповедавшегося Вам как священнику!) хладнокровно (хотя сердце колотилось, как у малолетнего шкодника, забравшегося в чужой сад за яблоками...) и нагло стибрил бывшую свою жестянку (ныне чужую!) с кофием, мною же и подаренную хозяину дома. После чего мы с Б. откланялись и смылись. Б. утверждал: я был красен как рак, — Адельгейда, очевидно, решила: втихаря хватил из графинчика на полке спирту настоянного на лимонных корочках, или перцовки из соседнего с ним графинчика, — и то ли смутился, то ли молниеносно окосел.
Поэт Б., запасливый, как большинство романтиков (Вам никогда не приходилось убеждаться в странном парадоксе романтических натур: ежели романтическая натура, так непременно по совместительству жох, выжига и расчетливейший тип?), оказывается, прихватило собой в суме клеенчатой котелок, сахар, пластмассовые чашки, ковшик на ручке и сказал: мы приступим прямо на пляже, только подальше отойдем, чтобы дымом костерка внимание не привлекать.
Однако, едва мы подошли к лачуге, из нее вышел Николай Федорович, тут же направившийся к нам поздороваться и поболтать. Б. утверждает — я краснел все больше и больше и, наконец, выпалил: «Должен признаться: я только что ходил к вам в дом воровать». Николай Федорович недоуменно спросил: «Не проще ли было взять в долг? В карты проигрались?» Я от смущения перешел к возмущению, как можно?! Какой долг? Какие деньги? Какие карты? Собственное подаренье свистнул. Н. Ф. расхохотался и предложил вернуться в дом и сесть за стол с белой скатертью. Б. возразил: задумали пикничок — пусть будет пикничок, присоединяйтесь, мы только хотели подальше отойти.
Идти подальше Николай Федорович отказался, пить кофе в лачуге отказался я, и мы развели костер метрах в десяти от нее.
Дивный запах зелья разносился по пляжу. Подошли Лара с молодым дачником, а через некоторое время и Адельгейда с Гаджиевым, явившимся в гости без предупреждения и заставшим дома одну экономку.
Поэт Б. пригласил всех рассаживаться вокруг костра, заодно заметив: прежде пили чашечками миниатюрными, но разного размера и дозировки, а нынче у всех одинаковые внушительные пластмассовые кружки. «Вы хоть их с верхом не наливайте, — сказал Николай Федорович, — это зелье в больших дозах пить нельзя». Никто его не слушал.
Через полчаса Маленький принес патефон. Мы танцевали, смеялись как полоумные, прыгали через костер, Гаджиев, надев соломенную Ларину шляпу, изображал сумасшедшую старушку, Лара заливисто хохотала, хохотала до слез, даже Адельгейда улыбалась.
— Давайте во что-нибудь поиграем, — сказал Маленький.
Последовали — наперебой — предложения: в жмурки — прошу прошения, это была моя идея, в фанты (Лара), в шарады в лицах (Николай Федорович), в «замри!» (Гаджиев), в чепуху (Маленький; хотя для него было бы естественней предложить, ну хоть в чижа) и в бутылочку (само собой, Б.; я тут же возразил, что такая игра подразумевает изобилие девушек в цвету, а также дам, а ежели мужиков в компании перебор, то компания должна состоять из извращенцев; «Кто такие извращенцы?» — спросила Лара. «Я вам потом объясню», — отвечал Гаджиев), в «горячо-холодно» (дачник), в «море волнуется» (Адельгейда, — остальные понятия не имели, что это такое).
Мы начали с фантов и, по-моему, впали в детство, потеряли всякую скованность и стеснительность. В Ларину соломенную шляпку накидали фантов: заколку (Адельгейда), коралловые бусы (Лара), скрепку (завалявшуюся у меня в кармане), тюбик полузасохшей синей краски (Маленький), авторучку (Николай Федорович), камешек (поднятый с песка Гаджиевым), конфету «Мечта» (поэт Б.), копейку (дачник). Адельгейда старательно сообщала, что какому фанту следует делать; Николай Федорович плясал лезгинку, Лара, которой велено было читать стихи, неожиданно прочла свои:
Я берегов не берегла,
Я отдавала их прибою,
И подвергались берега
Его веселому разбою.
Когда уходишь — поспеши,
Мила мне всякая нелепость,
Но и потопом не страши,
Мой дом — совсем не моя крепость.
Я не жалела — что жалеть?
Но со счетов волну не скину:
Воды прибавилось на треть,
Земли ушло на половину.
Не берегла я берега,
Уходишь — скатертью дорога!
Мне попадались жемчуга
И забывались, слава Богу.
Читать дальше