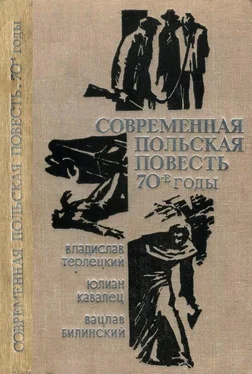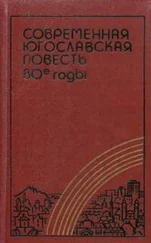В квартире холодно. Он надевает халат, подымает штору на окне и с минуту смотрит на улицу, мокнущую под дождем. У этой боковой улочки свой, монотонный, ленивый ритм. Сегодня Зарыхта вновь поражен тем, что здесь ничего не происходит. Запасной путь!
Заваривает чай, молока не выносит, пьет много чая, причем крепкого, уже месяц снова курит, не менее сорока сигарет в день, улыбается, говоря об этом врачу во время очередного обследования. Врач пугает его смертью: «Берегите себя, пан Зарыхта, иначе будет плохо». — «Плохо? Значит ли это, что после смерти я попаду в ад?» «Вы шутите, а я говорю серьезно», — бесится врач. Зарыхта мрачнеет. «Я тоже говорю серьезно. Хорошо, когда мужчина выносливый и работоспособный. Разве вы этого не понимаете, доктор?» «Как мне лечить такого пациента?» — вздыхает врач.
Однажды из-за этого разгорелась перепалка с Ханной: их разрыв не утвержден каким-либо формальным актом, как не был освящен законом и продолжительный альянс. Впрочем, Ханна по-прежнему считает себя вправе время от времени совать нос в его дела. «Что тебе говорил врач?» — «Что буду жить до самой смерти». — «Шутишь, что ли, Кароль? К чему нам ломать комедию?» — «А что я должен тебе сказать? Что врач считает, будто бы с каждым днем мне лучше?» — «Знаешь, что я скажу тебе, Кароль? Ты попросту трусишь. Ты боишься смерти. И ни о чем другом не можешь думать». — «Знаешь, что я скажу тебе, Ханна? Когда-то ты мне казалась умной. А теперь вижу, обыкновенная клушка. Ничего-то не понимаешь».
И тут громко хлопнула дверь.
В ванной, бреясь опасной бритвой — какая консервативность! — Зарыхта неприязненно смотрит на свое осунувшееся лицо. Он сед, волосы подстрижены коротко, глаза голубые и насмешливые: когда-то люди побаивались его глаз. За последние двадцать лет лицо его почти не изменилось. Можно это проверить по увеличенной фотографии, которая висит над письменным столом, купленным в «Ладе», когда получили первую квартиру. Ханна на этом снимке еще молодая пикантная бабенка, не столь красива, сколь горяча. Янек выглядит уже совсем взрослым, всегда так было, а он, Кароль, почти такой же, как теперь, только морщины на лице были менее резки. Ханна говорила, что это признак мужественности. Янек стоит на фотографии рядом с Ханной, и, чтобы не видеть его теперь, Зарыхта воткнул в угол деревянной рамки другую карточку: потемневшую, почти совсем выцветшую и сломанную пополам. На ней — деревенская женщина в фартуке и головном платке, лица разобрать почти невозможно. А позади нее какой-то дворец, намалеванный на сморщенном холсте.
Это мать Кароля Зарыхты.
Но вернемся к болезни Кароля. Трудно ему мириться с инвалидностью. Сердце его не выдержало такой жизни. Почему? Разве это не насмешка? Сердце, к которому Кароль никогда особенно не прислушивался: он не был ни слишком чувствителен, ни сентиментален, не гонялся, как иные, за любовными интрижками, и нельзя даже сказать в оправдание этой вероломной мышце — сердца: «надо его простить, оно много любило». Черствое, холодное — по общему мнению — сердце Кароля Зарыхты, человека, идущего по жизни, словно в эмоциональном вакууме. Любовь — по крайней мере в расхожем значении этого слова — не слишком много для него значила. Любил ли он, например, Ханну? Одно время она ему нравилась. В постели ей не было равных. Если бы удалось вызвать Зарыхту на откровенность — а это совсем не просто, — возможно, он и признался бы, что одной из важнейших уз их супружества являлось то, что даже в постели он мог беседовать с ней о самом важном — о политике. Но действительно ли когда-нибудь вспыхивала между ними любовь? Их занимало столько проблем, куда более всепоглощающих, драматичных. Каролю вечно не хватало времени на сон, еду, мытье и любовные утехи.
Почему же так амортизировалось, подвело — как показало время — его ненадежное сердце? Самое слабое звено в целом прочной цепи?
Но довольно этих желчных пересудов! Зарыхта садится завтракать (как всегда — бутерброд с ветчиной, стакан чаю, яблоко). В этот самый момент звонит телефон на столике в передней. Вряд ли что-либо важное, кончились важные проблемы, экстренные звонки. Кароль допивает чай, не торопится, ибо кто же и ради чего, — думает он брюзгливо и пренебрежительно, — звонит в такую пору?
Отодвигает стакан и ковыляет в переднюю. В телефонной трубке слышится топкий, взволнованный голос Ванды, дочери:
— Как чувствуешь себя, отец?
Ванда нечто вроде помоста, соединяющего Зарыхту о нынешним днем. Отношение у него и дочери сложное, неопределенное, с примесью какой-то горечи и ощущения вины. Почему не сказала даже «здравствуй», а сразу же этот вопрос? Неужели что-нибудь стряслось? А может, попросту хочет удостовериться, жив ли еще отец?
Читать дальше