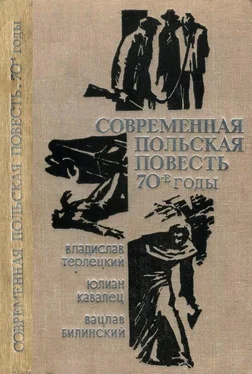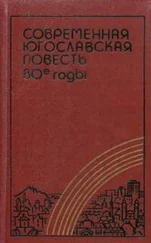Немного повременив, Раттингер подал в отставку ввиду ухудшения здоровья. Перед этим у них с Барыцким состоялся продолжительный разговор, течение которого им обоим трудно было бы теперь восстановить. Я не позволю, чтобы меня били. А другие, другие должны были это позволить? Но я не желаю. Значит, дело может и заключается в том, что одни должны здесь, только здесь жить, страдать и только здесь переносить трудности и питать надежды. А другие не должны? — нечто в этом роде сказал тогда Барыцкий. Это была уже ссора.
Год спустя Раттингер покинул родину. Узнав об этом, Барыцкий не удивился. Однако телефонный звонок его озадачил.
— Хочу проститься, мы проработали столько лет… — сказал Раттингер.
— Где и когда? — спросил Барыцкий.
— Уезжаю сегодня, через три часа. Может, заглянешь на вокзал? Разумеется, если не боишься…
Последняя фраза была неожиданна, излишне обидна. Ничего подобного Барыцкий не заслуживал. И ничего подобного от Раттингера не ожидал. Хотя знал его прекрасно — за многие годы, по мере того как отчетливее выявлялась эта болезненная трусливость или попросту эквилибристика перестраховщика, изучил все уловки инженера, виртуозно избегавшего малейшего риска и ответственности. Он прекрасно знал Раттингера и надеялся, что вправе ожидать от него если не лояльности, то по крайней мере благовоспитанности.
Барыцкий, преодолев соблазн отмахнуться от звонка, появился на вокзале за десять минут до отхода поезда, высмотрел в окне вагона седую голову Раттингера, который за последний месяц постарел на десять лет.
— Как видишь, я здесь, — сказал Барыцкий.
— Не боишься? — спросил Раттингер и не подал ему руки, может, из окна вагона было неудобно, слишком высоко.
— Я бы за тебя боялся, если бы знал, что просто дезертируешь, — сказал Барыцкий. — Но, по-моему, ты едешь как бы в санаторий.
— Дорогой мой, — вздохнул Раттингер. — В моем возрасте из санатория дорога зачастую ведет на кладбище.
— Ты всегда говорил, что принадлежишь к роду долгожителей.
— Мой род был долговечным тысячелетия. Но в настоящее время…
— Интересное время.
Мимо Барыцкого прошел железнодорожник в красной фуражке. Поезд вот-вот должен был тронуться. Раттингер еще больше высунулся из окна и сказал:
— Прошу тебя, сделай милость…
— Ты о чем?
— Скажи мне правду. Не ты ли натравил на меня этого мальчишку? Я имею в виду Плихоцкого. Скажи мне правду. Видимо, я тебя здорово допек.
Барыцкий безмолвствовал.
— Значит, не скажешь? Как понимать твое молчание?
— А если скажу, поверишь?
— Я тебя изучил. Знаю, когда тебе можно верить.
— С этим не имел ничего общего.
Поезд тронулся.
— Но в принципе согласен с его оценкой, — сказал Барыцкий, повышая голос почти до крика. Еще раз протянул руку, не дотянулся, пошел рядом с вагоном. — Пойми, пойми, наконец! — крикнул. Поезд набирал скорость. — Эта страна, ее история, муки, весь этот конгломерат и есть наша судьба. По какому праву ты хочешь этого избежать?
Споткнулся, упал и больно ушиб колено. Когда поднял голову, в окне вагона уже никого не было.
Спустя год он получил открытку от Раттингера из Стокгольма. Устроился там довольно сносно — экспертом в международной страховой компании. Даже подчеркнул красным фломастером слова «наконец живу спокойно». И Барыцкий вдруг изумился, что когда-то вполне нормальным представлялось ему присутствие Раттингера на строительных площадках, в гуще парней в ватниках и беретах, натянутых на уши, в толпе напирающих отовсюду крестьян-рабочих.
Инженер Плихоцкий был в ту пору уже заместителем Барыцкого. Теперь в зеркальце его лицо колыхалось, то и дело исчезая. Он был сонный, усталый, снедало его сознание проигрыша. А когда громил Раттингера в сумраке прокуренного зала, в атмосфере, которая сразу же сделалась драматически-напряженной, у него было исполненное отчаянной решимости лицо боксера, вышедшего на ринг, чтобы бороться за медаль.
Но Барыцкому хорошо запомнилось собственное внезапное чувство клановой солидарности с критикуемым собратом-директором. Скандалист, так он тогда подумал, скандалист, любитель мутить воду. Надо его остерегаться. Демагог. Крикун. Такой, прав он или не прав, всегда готов вцепиться в глотку. Но, несмотря на возникшую было неприязнь, слушал аргументы Плихоцкого внимательно, сумел отцедить демагогическую муть, а то, что осталось, счел все-таки любопытным. Прислушался еще внимательнее. И вдруг уловил вопреки несколько инфантильной (а может, и порожденной ситуацией) горячности оратора упреки, которые и сам предъявил бы Раттингеру, если бы не узы дружбы, узы многолетней совместной работы. И своего рода лояльность. Озадачивал еще один факт. Молоденький инженер приметил и то, что далеко не всегда лежало на поверхности, а чаще всего плесневело под сукном. Как он об этом дознался? Наблюдательность? Интуиция? Способность к ассоциативному мышлению?
Читать дальше