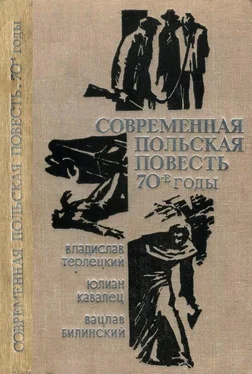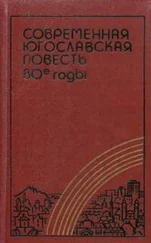Ибо — как красиво говорил тот учитель — не умолкли еще стенания поколений, еще доносится крик из далекого прошлого, и пока этот крик доносится, должно быть покаяние тех, кто виновен в этих стенаниях и криках.
Б. М., ведя тебя, отец, на казнь, перечисляя твои вины и отмеряя их ударами хлыста, сказал в заключение перечня — это за изнасилование ясновельможной паненки.
Ты, отвечая на его последние слова — будь то возможно, — постарался бы установить в его душе как бы весы и на одну чашу поместил бы барахтанье в грязи двух конюхов с ясновельможной паненкой, их купание в вине, а потом тот безумный праздник, который троица устроила в нестерпимом свете величественного огненного дерева, и смерть ясновельможной паненки с венком из сорных трав на голове; а на другую чашу весов поместил бы плату, какую старые конюхи заплатили за эти игры и за свою вековую, передаваемую из поколения в поколение прикованность к маленькому клочку мира, где царила вонь конского навоза, и еще прозвище, ставшее почти именем, — смердилы; и шлейф едкой вони, волочившийся за ними до самых дверей костела, и слова людей — не входите внутрь, а то ксендз унюхает и выгонит, а то, что богу не воняете, ничего не значит, станьте себе в притворе, там сквозняк; и на самый верх этой второй чаши ты поместил бы их смерть в нестерпимом свете огненного дерева, и ты мог бы тогда спросить Б. М. — что перевешивает, а он мог бы на это ответить — тут особый случай, тут равенство в смерти; а ты, отец, мог бы оказаться великодушным и сказать — ладно, Б. М., признаем, что происшествие с ясновельможной паненкой и прежде всего ее смерть были достаточным искуплением, пусть будет равенство в смерти: а в конце этого воображаемого разговора ты мог бы добавить — к чему была бы вся эта бойня, если бы те смердилы не могли выкупаться в вине вместе с ясновельможной паненкой и если бы не смогли увлечь ее танцем как равную себе; и эти слова были бы как аминь, как печать.
А может быть, они говорили бы, что ты не постыдился бы выступить покровителем того, что случилось в погребе, того разнузданного барахтанья двух похотливых стариков с ясновельможной паненкой, пьянства той троицы и безумного праздника в нестерпимом свете величественного огненного дерева.
Думаю, суд напрасно с чрезмерным рвением старался доказать беспочвенность последних слов литании Б. М., сопровождавшихся ударами плети по ногам отца; лучше бы приложил больше стараний для доказательства, как несправедливо прозвище — курокрад; ибо это прозвище совсем не соответствовало его жизни и смерти, пожалуй, куда больше, чем его причастность к событиям в погребе; ибо в этом прозвище есть что-то унижающе-оскорбительное, даже если вспомнить, что тогда у ложа больного брата царило отчаяние, враг величия и достоинства, порождающий мелкие поступки, поступки-уродцы.
Поэтому суду, если уж он так был заинтересован в воссоздании благородного образа отца, следовало бы уделить этому делу больше времени и больше рвения, чтобы рядом с величественным пьедесталом смерти А. В. уж никогда не заквохтала украденная ночью курица, чтобы свернутая куриная шея говорила не о краже, а о несчастье, которое не марает пьедестала смерти.
Поэтому мне хотелось вырвать из книги те страницы, где отражено это событие; но ни на минуту не приходила мне в голову мысль убрать из книги страницы, на основании которых можно было бы заподозрить, что А. В. был причастен к событиям, происходившим в погребе.
Я задумываюсь — почему же… Опьянило ли меня то низвержение с высоты, то страшное падение мира, с которым боролся отец, и то странное, дьявольски странное возвышение мира, во имя чего и боролся мой отец; возможно, я счел залитый вином, грязный погреб, где столкнулись два мира, и дном, и взлетом; видимо, счел доказательством того, что наступает время искупления для мира, с которым боролся отец…
А может быть, то, что происходило в погребе, я уместил в полных доброты, хотя и несколько коварных, мыслях отца — пусть на краю своей могилы эти два старых конюха вознесутся высоко, словно птицы, пусть удостоятся того, что будет значить больше, чем самое великолепное пиршество в дворцовых залах; пусть сразу же поднимутся на самую вершину, потому что стоят уже на краю своей могилы и скоро улягутся в нее.
Так и случилось, ибо вскоре они сошли в могилу, веселые и обиженные на грубого бога войны, не позволившего им подольше побыть на вершине.
Эти мысли приходят мне в голову, когда я вчитываюсь в показания старого деревенского учителя, который хорошо знал отца и рассказал о нем много интересных и волнующих меня до глубины души вещей, и так нарисовал его облик, что я мог увидеть не только его, но и время, в которое он жил.
Читать дальше