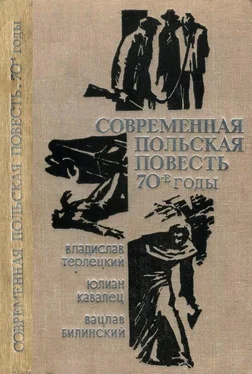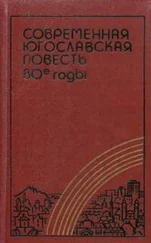Собственно, мой вопрос, адресованный безрукому мальчику, не имеет смысла, ведь все уже случилось, он уже выскочил из своего укрытия в развалинах, и в тот момент, когда выскочил, осколок последнего снаряда оторвал ему руку; и он тогда сразу изменил направление бега, истекая кровью, с коротким обрубком помчался к своему дому, но не добежал, упал и потерял сознание; к счастью, бой закончился, его заметили люди, он был спасен и остался жить; а ведь мог бы жить и с рукой, если бы не спешил так к той троице, погруженной в вечный сон.
Что увидел бы он, приблизившись к ним? О том, что он мог увидеть, рассказывает уже другой свидетель, тот, кто первым подбежал к убитым, а потом вместе с другими организовывал похороны.
Итак, главный свидетель, не случись с ним несчастья, увидел бы большой круг черной травы, а на той траве алое рваное полотнище из крови, пролитой троицей в общем веселье; а на этой кровавой постели он увидел бы обнаженную, белоснежную ясновельможную паненку, лежащую навзничь с венком на голове; и наверняка увидел бы великое успокоение на лице ее и капельку удивления; ведь пуля настигла ее в момент веселья, беззаботного веселья в зареве пылающего дерева, среди иллюминации и огня.
Из показаний свидетеля, человека пожилого и добродушно-словоохотливого, дававшего показания после однорукого мальчика, следует, что у конюхов, лежавших вместе с ясновельможной паненкой на алой постели, были по-детски обиженные лица.
Суд, однако, не выпускает из рук эту троицу, и не останавливается на пороге ее смерти, и провожает до самой могилы; настолько он заинтересован в доказательстве того, что А. В. был вне событий в погребе и что даже ни словом, ни шепотом, ни жестом не спровоцировал эти события; и что даже те слова, шутливо поощрительные, однако способные распалить человека и заставить его пережить внутреннее потрясение, которое выбрасывает наружу глубоко скрытые желания, словно горячую лаву, что даже эти слова — «может, хотите попробовать…» — сказал не он.
Но разве важно, кто сказал эти слова.
А может, никто их и не говорил, может, это нашептали деревья, или устланный дымом и огнем простор, или сам воздух, в котором метались огромные огненные деревья, освещавшие ночь, а может, они прозвучали в самих людях, и они услыхали самих себя, хоть и не говорили; ибо это был странный, дьявольски странный мир, и я, и мои друзья, и вся молодежь знаем, что много трудных для понимания вещей творилось в том мире; стало быть, могло произойти и такое чудо, что человек в самой гуще этого хаоса услышал самого себя, хотя не говорил, хотя у него были сжаты губы.
Вчитываясь в эту огромную книгу судебных протоколов, я прихожу к заключению, что суду важно было подтвердить добрую репутацию А. В., доказать, что А. В. был безупречен, благороден, а ведь речь-то идет не о репутации, не об обычной репутации на сегодняшний день, а на бесконечные времена, об истории.
Так думаю я, вглядываясь в облик отца, встающий со страниц книги процесса против Б. М. и его группы.
Ты, отец, был таким, что ко всему подходил с меркой истории; между тобой, отец, и Б. М. та разница, что он, как бы сказать, служил «репутации сегодняшнего дня», а в тебе, отец, звучали крики, причитания, молитвы — как это еще назвать — многих поколений, долгой истории.
Б. М., ведя тебя на казнь и шагая рядом с тобой к деревьям-виселицам, говорил тебе — ты, А. В., ты, А. В., зачем ты забрал не свою землю?
Ты мог бы ему ответить, если бы это было время для дискуссий — но какая дискуссия может быть между палачом и жертвой; разве только такая, когда жертва умоляет о пуле, а палач не дает себя уговорить, потому что у него есть приказ повесить и оставить жертву на веревке для устрашения других, — ты мог бы ему ответить, если бы были условия для дискуссии, словами, которые ты говорил своей жене и матери, — у кого было много, должно быть мало, кто жил в гнилой халупе, должен перебраться во дворец, а тот, из дворца, в гнилую халупу, и не должно быть уравнивания, ибо уравнивание помешало бы искуплению, это и по-человечески, и по-божески.
Из материалов книги, и особенно из той ее части, где записаны ответы старого деревенского учителя, вызванного в суд для дачи показаний, следует, что отец не дал себя обмануть наивным благородным равенством и твердо стоял на требовании искупления, ибо для него важна была не репутация на сегодняшний день, на какой бы то ни было «сегодняшний день», для него была важна справедливость, а нет справедливости без обратного неравенства, без искупления.
Читать дальше