Бедный Телемах, какую неуверенность заронила я в его душу своим поведением! Мне так успешно удалось скрыть радость, которую я испытывала, видя Одиссея рядом с собой за столом, что обед прошел почти в полном молчании, а у Одиссея, должно быть, еще вызывала беспокойство вся возникшая в зале атмосфера, в которой смешались и его подозрения, и мой обман, и запах пролитой крови, еще не выветрившийся, несмотря на мытье и окуривание серой.
Как отвратителен этот сладковатый запах человеческой крови! Даже серный дух не перебил его, или, может, мне это только казалось? Но ведь и самовнушение действует на наши чувства. Запах крови, настоящий или воображаемый, лишил аппетита и меня, и Одиссея, и Телемаха, которые едва притронулись к обильной еде, выставленной подавальщиками на длинном столе.
Прежде чем отправиться спать, мы посидели перед горящим очагом за красивыми кубками с вином для меня и Телемаха и с липовым отваром для Пенелопы. Телемах показался мне обеспокоенным. Он долго приглядывался ко мне, а потом вдруг поднялся и отошел, якобы для того, чтобы повесить свой лук и меч, которые служанки положили на скамью в одном из углов большого зала. Но это был просто предлог, потому что он подозвал старую Эвриклею и стал тихо говорить с ней, явно надеясь услышать от нее слова, которые умерили бы его тревогу. А может, он решил оставить нас с Пенелопой наедине в надежде, что мы развяжем наконец узлы, мешающие ей признать меня?
Я сидел перед молчащей Пенелопой и старался найти в памяти какую-нибудь тайную примету, по которой она могла бы меня узнать. У стен Трои все говорили о своих женщинах. Это были рассказы, откровенности которых способствовали темнота биваков и одиночество. Я тоже говорил о Пенелопе, описывал ее внешность, ее тело, вспоминал цвет и длину ее волос, упругие и чувственные груди, глубокий пупок в центре нежного живота и даже более потаенные местечки, скрытые под густой порослью волос, родинку над коленом, которая всегда притягивала мой взгляд, когда обнаженная Пенелопа лежала на постели. И вот теперь я пытался вспомнить, где именно была родинка, о которой я рассказывал своим товарищам, — над правым коленом или над левым, но богиня Мнемосина отвернулась от меня.
Как я ни старался, мне не удавалось вспомнить, на какой ноге была эта родинка. Заговорив о ней с Пенелопой как о тайне, которую знал только Одиссей, я смог бы угадать правильно, но с тем же успехом и допустить ошибку, которая стала бы для меня роковой. Я уже почти было решился рискнуть, но потом отказался от этого намерения, боясь оказаться в глазах Пенелопы подлым обманщиком.
Ужасная пустота и глубокая тишина воцарились, когда мы с Пенелопой остались одни. Неужели нам нечего было сказать друг другу? Но когда Телемах вернулся и сел рядом с нами, в моей смятенной памяти забрезжила еще одна деталь, позволявшая признать во мне Одиссея.
Наше ложе я сделал сам из ствола и ветвей вросшей в стену дома старой оливы, когда после рождения Телемаха мы решили пристроить новые комнаты, в том числе и спальню для нас с Пенелопой. Я сам обрубил топором, а потом заровнял рубанком ветви большой оливы, достигавшие верхнего этажа. Таким образом, наше ложе держалось на этих ветвях, которые я обработал с помощью одного опытного столяра. Все это я рассказал Пенелопе в присутствии Телемаха: вот оно, доказательство того, что я знаю дом со всеми его секретами.
— Твой рассказ соответствует действительности, — сразу же отозвалась Пенелопа, — но это вовсе не означает, что ты — Одиссей. Мне известно, что Одиссей перед всеми похвалялся этим своим творением и наверняка рассказывал о ложе ахейским воинам во время долгой осады по ночам, которые они проводили в беседах в ожидании нового дня. Разве ты не говорил, что тоже слушал его рассказы? Мы знаем, что Одиссей разжигал большой костер и, усадив вокруг огня своих товарищей, рассказывал им об Итаке, о своей охоте на диких кабанов, о шраме, об огороде, возделываемом отцом его Лаэртом, о стадах свиней и о дубовых рощах, где так много желудей. Ну и конечно же — о своем доме, о ложе, построенном собственными руками, и о Пенелопе. Рубец же, который ты предъявил нам как опознавательный знак, можно увидеть у многих мужчин, к тому же, помнится мне, он был у Одиссея на правой ноге, хотя няня Эвриклея утверждает, что кабан пропорол его левую ногу и шрам у царя Итаки на левой ноге, как у нашего гостя. Не знаю уж, что достовернее -мои воспоминания или воспоминания очень старой няни с ослабевшей памятью.
Читать дальше
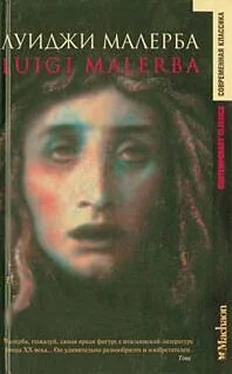
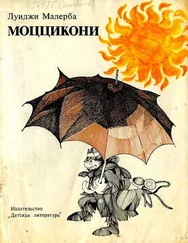
![Луиджи Капуана - Сказки Италии [Сказки для детей]](/books/35715/luidzhi-kapuana-skazki-italii-skazki-dlya-detej-thumb.webp)









