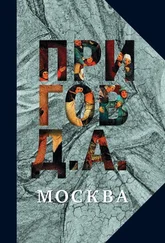выдуманная история
Тоненький солнечный луч, расширявшийся в своей середине, чуть отодвинул в сторону узорчатую прозрачную занавеску и уперся в половицы. Прямо рядом с ним. Светлое деревянное покрытие просто вспыхнуло от светового удара. Моцарт отвернулся к стене. Мгновенно ослепшие глаза только через минуту-другую постепенно смогли различать тканый выпуклый узор обоев на стене. Его крупные барочные растительные извивы, приобретавшие порой явный зооморфный характер, привычно заставили взгляд следовать своим прихотливым переплетениям. Что-то там закручивалось, выступало, пошевеливалось. Даже если легонько тронуть изображение и убедиться в его абсолютной неподвижной распластанности вдоль стены — все равно там что-то чудилось. Некое укрытое мышиное копошение.
Некоторое время Моцарт лежал недвижно, созерцая стену, не притрагиваясь к ней. Удерживаясь от этого. Утомился.
Потянулся до хруста в суставах и зажмурился. Опять развернулся лицом к комнате. В световом столбе играли, кружились пылинки. Моцарт попытался ухватить одну из них, но неудачно. А и ладно. И так хорошо. Он замер и долго лежал на спине с открытыми глазами. Вспоминал. Снилась какая-то погоня, так как проснулся он от подрагивания и быстрого перебирания ногами в воздухе. Конкретнее ничего не припоминалось. Все сразу же пропало и забылось, как только открыл глаза.
Прислушался.
В знакомых шумах с улицы, доносившихся в раскрытое по лету окно, не было ничего необычного. Разве что на секунду-другую настороженное внимание мог привлечь мгновенный шорох множества одновременно всколыхнувшихся птичьих перьев. Ишь, взметнулись! — отметил про себя Моцарт. Чем-то вспугнутые или по чьему-то высшему, со стороны не распознаваемому приказу пернатые тушки сорвались с соседней крыши и теперь висели недосягаемы, удерживаемые в воздухе раскинутым парусом суховатых крыльев. Да, недосягаемы. Моцарт опять мечтательно потянулся. Недосягаемы. А впрочем…
Квартира наполнялась привычным утренним шевелением. Кто-то стремительно покидал дом, убегая по своим ежедневным суетливым делам. Кто-то, наоборот, приходил. Долго возился в прихожей, медленно включаясь в обычную трудовую рутину. Войдя с улицы, покряхтывая, сменял пыльную обувь. Да, угадывал Моцарт, это служанка. Немолодая, но вполне терпимая. Иногда даже внимательная и услужливая. Впрочем, совсем, совсем нечасто. Вдова какого-то солидного почтового служащего из дальнего пригорода, несшая здесь службу за весьма скромную плату. А из ближнего-то кто бы, избалованный большими деньгами большого города, согласился маяться по хозяйству почти целый день за такой оклад? В результате же все были довольны.
Изредка она поведывала кому-то в глубине квартиры то ли про свои болезни и напасти, то ли о страданиях кого-то из близких, впрочем, вполне Моцарту неизвестных. Да и какая разница? До него доносился с трудом различимый, но все-таки угадываемый ее голос. Она нудно повествовала:
— Известное дело, синдром миокарда. Что? Нет. Сердце опустилось в печень.
Опустилось — и опустилось. Моцарту были малоизвестны, вернее, даже совсем неизвестны особенности человеческого организма, его части и сочленения и возможная их взаимная подверженность порче. Так что все было возможно. На его взгляд — практически все.
Впрочем, это тоже не его забота. Он снова потянулся.
Где-то совсем уж в дальних комнатах послышались легкие, чуть-чуть даже виноватые звуки, будто два-три прозрачных детских пальчика перебирали клавиши. Ну да, это же приходящий ученик. Вернее, ученица. Девочка, всегда вызывавшая в нем естественную настороженность. Кто знает, что от нее можно ожидать. Но она к нему и не приставала. Тихая и бледная, она незаметно приходила и, изредка на ходу бросив на него почти пугливый взгляд, так же бесшумно исчезала. И это было хорошо. Хорошо. Что она там наигрывает? Нет, не припоминалось. Да он и не обязан всего этого знать. Что за чушь, в конце концов.
Ему почудилось, будто из глубины квартиры его позвали певучим женским голосом: “Моцарт! Моцарт!”. Он не отозвался.
Да и, собственно, не откликаться же на всевозможные случайные оклики. И, как он точно знал, в это время дня, вернее утра, вряд ли могло случиться что-либо очень уж для него соблазнительное, чтобы тут же немедленно и отзываться. Тем более поспешать на любой голос. Скажем, тех же случайных рабочих, починявших просевшие дверные косяки, украдкой взглядывавших на него из-за угла и восклицавших: “Ах, Моцарт! Ах, Моцарт!”. Вот именно что — ах, Моцарт! Нет, нет, он совсем не был высокомерен. Даже, если можно так выразиться, скорее демократичен в общении и вполне непривередлив в выборе предметов своего общения. За что, кстати, имел немалые нарекания со стороны близких. Но это тоже — их проблемы и предпочтения. А он свободен в своем выборе.
Читать дальше