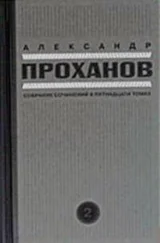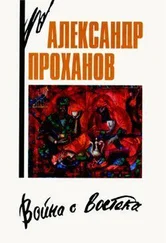– Я весь день сидела, ждала тебя! Нет и нет, нет и нет, а сейчас вышла, решила поужинать.
– Вот и хорошо! Пойдем поужинаем… Или после? Или ко мне?
Он путался, сбивался. Радовался тому, что сбивается. Вел ее через холл к ресторану, где звякала музыка, и швейцар с галунами приоткрыл перед ними тяжелую дверь.
Ресторан был огромный, в двух ярусах, еще полупустой. Астахов подошел к метрдотелю и, глядя в его зоркие, черные, всевидящие глаза, попросил:
– Два места, и больше, прошу вас, никого не подсаживайте!
Метрдотель секунду смотрел на его жесткое, сожженное солнцем лицо, на его штатский, чуть просторный костюм, под которым прямо и твердо двигалось тело, на крепкие складки у губ и бровей. Что то понял, кивнул:
– Вам подальше от оркестра?..
– Конечно!
И они оказались вдвоем среди золотистых ресторанных сумерек, где, удаленные, на маленькой сцене, музыканты трогали перламутровые инструменты, перекладывали их с места на место, и инструменты тихо позванивали, постукивали и вздыхали.
– Ну вот, – сказал он, когда официант поправил перед ним две крахмальные салфетки, выпуклое, на тонких ножках, стекло. – Ну вот!
И сразу обо всем, что просилось, рвалось, было у них на устах, летело вместе с ними в самолетах. О домашних, о близких. Окунуться в дорогой домашний сумбур, от которого, бывало, уставал и отмахивался, а теперь кидался в него, желал его, требовал. Хотел знать о доме.
Прежде всего о сыне.
– Знаешь, как-то уж очень за этот год Витя наш повзрослел. Все эти его усмешечки, выходки куда-то исчезли. Стал серьезный. Учится почти на отлично. Редко-редко четверку принесет. Много о тебе расспрашивает. Как с тобой познакомились. Почему ты стал офицером. Про твой лейтенантский период. Как в танке тонул. Повесил над своим столом карту Афганистана, кружком отметил провинцию Герат. Заглянула к нему в учебник, а там лежит твоя последняя фотография. В кишлаке. Ты всегда для него много значил, а теперь особенно. Боюсь, что он метит в военное училище…
– Чего ж бояться, молодец Витька!
Затем, конечно, о матери.
– Я ведь к Маргарите Васильевне ездила, я писала тебе. Ну что я тебе скажу? Болеет. Плохо слышит, видит. Я ей весь дом прибрала, все вымыла, выскоблила. Приезжайте, говорю, Маргарита Васильевна, к нам. У нас ведь хозяина нет, комната пустует. Вот и поживете в сыновней комнате! А она отказалась. Говорит, поздно ей уже ехать. Только бы дожить, тебя еще раз повидать!
– Ах, мама, мама! Так о ней душа болит! Ведь вот же она, совсем недавно была молодая, вишню в саду обирала. А теперь такой за нее страх находит!.. Ты все-таки уговори ее, ладно? Может, летом на дачу ее возьмешь. Ну, конечно, она не больно-то ладит с твоими стариками. Опять обиды начнутся… Ах, мама, мама!
Потом о ее родителях.
– Ну мои-то еще молодцом! Тебе кланялись. «Привет твоему генералу!» Мать говорит: «Если к осени вернется, я его тремя сортами варенья угощу и грибами солеными». А отец посмеивается: «А я его запрягу в хозяйство, сараюшку с ним переделаем. Хоть он и большой начальник, а я ему рубанок в руки – и работай!»
– Ну, Петр Захарович без дела сидеть не даст! Сараюшку мы с ним переделаем. На его лад, конечно!..
О соседях по дому.
– У Караваевых, как всегда, не разбери что! Ссорятся, мирятся. Разъезжаются, съезжаются. Варвара ко мне то жаловаться прибежит, а то не нахвалится своим. Я ей говорю: «Ты, ради бога, Варвара, уж больше ко мне с жалобами не ходи! Я ваших дел не понимаю и понимать не хочу! Вот если бы твой получил назначение куда-нибудь подальше, где пули свистят, ты бы иначе на него смотрела. Поняла бы, что такое семья!»
– И правильно. И не вмешивайся в их канитель! Пусть сами разбираются. Буза эта их бесконечная! Как только люди живут!..
Он смотрел и не мог насмотреться на ее красное платье, которое ей так шло, на округлое дорогое лицо с легкими морщинками у сияющих глаз.
– Вера, Вера моя!..
Официант, действуя бесшумно и ловко, расцвечивал стол. Красиво уложенная на тарелках и блюдах еда, бутылка шампанского. Нет, это не была их домашняя трапеза, когда Вера ставила перед ним его любимую миску, в которой все казалось вкуснее. Если был в духе, ел да нахваливал, видел, как она розовеет от удовольствия. А если не в духе, хватал газету, ел, уткнувшись в лист, и она огорчалась, искала его взгляд, роптала. Нет, это было не домашнее желанное застолье. Но и не то торопливое, в гарнизоне, где офицеры тесно, плечом к плечу, сходятся на быстрые завтраки, обеды и ужины, внося в них продолжение своих военных забот, своей усталости, своей печали по любимым, далеким. Не то, в походном фургоне, за узеньким металлическим столиком, куда повар-солдат подает тарелки из прорезанного в стене оконца, а в открытую дверь видна колючая степь, скопление техники, пыль от прошедшей колонны. Но все-таки это было чудесно – белая скатерть, блеск стекла, летящие пузырьки шампанского и она, его Вера, так близко, на расстоянии тихого слова, на расстоянии протянутой с бокалом руки.
Читать дальше