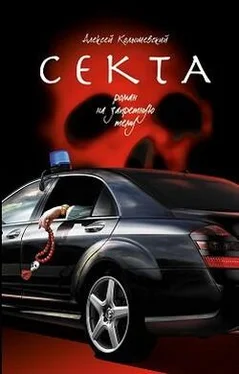– А похож. Прямо вылитый, только этот помоложе и посимпатичнее, – толстуха медсестра продолжала рассматривать его паспорт, сравнивая фотографию с отложившимся в ее памяти обликом публичного Геры, чье изображение было щедро растиражировано СМИ. – Надо ж тебе, как свезло-то! И фамилия у тебя с ним одинаковая, и морда, то есть, простите, лицо как будто срисовано.
– Мне бы от сердца чего-нибудь, – взмолился Гера, ощутив новую серию беспорядочных ударов в груди.
– Да сейчас, сказала же. Вон и доктор уже идет, все равно без него тебя лечить не начнут, а он тут один на три корпуса. Это тебе не Москва, – сестра еще раз заглянула в паспорт и хмыкнула, – Герман Викторович.
Доктор оказался ровесником Геры, и это было здорово, так как лечить ему еще не надоело и профессиональный цинизм не вытеснил из сложной докторской души последнего сострадания. Он прикрикнул на бегемотоподобную медработницу, и та, нехотя встав со стула и совершенно неожиданно для Геры вытащив его из кресла-каталки, запросто подняла и уложила на кушетку. Засучила брючины, подняла к подбородку свитер и майку, налепила куда следует электроды и сделала кардиограмму.
– Мерцалка, – изрек ровесник Геры и с важным видом поправил на лбу свой докторский колпак, – пароксизм. Будем купировать.
Так Гера попал в отделение кардиореанимации районной больницы города N, расположенного аккурат посредине между Москвой и Костромою. Гере в какой-то степени повезло: в облезлой палате, где лежали сорок человек, готовых в каждую секунду упокоиться с миром, нашлось местечко возле окна, да еще и отделенное ширмой из белой вискозы, натянутой на каркас. Толстая медсестра с видом галерного раба, мечтающего о восстании и лаврах Спартака, с грохотом приволокла капельницу на колесиках и принялась прилаживать ее к Гере. С первого раза не получилось, она выругалась, опять куда-то ушла, и не было ее минут пятнадцать, а сердце все не успокаивалось, и Гера возненавидел эту толстуху до зубовного скрежета и зуда в костяшках кулаков. Однако, понимая, что от обиженной жизнью медсестры сейчас буквально зависит его жизнь, решил виду не подавать, вести себя смирно, как и подобает пациенту реанимации, чьи претензии на жизнь зачастую являются сильно завышенными.
Медсестра перетянула ему руку выше локтя жгутом и процедила:
– Кулаком работай.
– Чего? – не понял Гера.
– Кулаком, говорю, работай! Вот так вот сжимай его и разжимай. Тупой, что ли?!
Гера послушно сделал все, как она просила. Локтевая вена набухла, и медсестра вставила в нее здоровенный катетер. Прилепила его для прочности пластырем к руке, поглядела, как капает в накопитель наверху прописанное доктором средство, и собралась уходить.
– А что мне делать, когда капать перестанет? – Гера внутренне замер, ожидая очередного проявления медсестрой ее «салонного воспитания». Он не ошибся:
– Кричи громче.
– Кричать? А вам разве сложно иногда проверять, как тут у меня дела?
– Ты чего, обкурился?! У меня тут сорок вас, полужмуров, да еще и в женском отделении приглядывать приходится. Я чего тебе тут, за пять тысяч в месяц, может, стриптиз должна отплясать? Сказала кричи, значит, кричи. Нужно будет, так и голос прорежется.
Медсестра-монстр ушла по своим делам, и сквозь свою ширму Герман слышал ее вопли в разных местах палаты. С другими больными она вообще не стеснялась в выражениях, и Гера подумал, что, видимо, его фамильное и портретное сходство с самим же собой все-таки сыграло с сестрой злую шутку, заставив ее слегка изменить свой лексикончик.
Содержимого в капельнице хватило на целых два часа, и в течение всего этого времени никто не заглянул к Гере. Он и рад был этому, тем более что средство, назначенное врачом-ровесником, оказалось действенным, и Герман с восторгом ощущал, как неистовый музыкант-ударник начинает выдыхаться и сердце все менее охотно участвует в его сложном соло на барабанах, становясь прежним, точным и бесхлопотным.
Наконец, когда последняя капля лекарства приготовилась перейти из своей перевернутой книзу горлышком бутылки в кровь Германа, а сам он приготовился нарушить скорбный покой реанимации громогласными призывами медсестры, к нему все-таки заглянули…
…Это была удивительно милая, худенькая и очень изящная девушка, которой решительно никак не могло исполниться более двадцати пяти лет. Одета она была с подчеркнутой аккуратностью и была абсолютной противоположностью толстухе, на появление которой Герману только и приходилось рассчитывать. Лицо неожиданной пришелицы было мало того что милым до умопомрачения, оно было столь же умным: лоб чист и высок, носик точеный, но не остренький, словом, такой, какой надо, волосы, прядь которых выбилась из-под белого накрахмаленного колпака, рыжие, а большие, продолговатой формы глаза – зеленые. Губы полные, сочные, подбородок волевой: в профиль ни дать ни взять – римская патрицианка. Герман, потерявший на мгновение способность членораздельно говорить, залюбовался этим лицом. По своему обыкновению поспешил найти в нем признаки вульгарности, обыденности, словом, соответствия месту, где она работает, но ничего не нашел и признался самому себе в том, что девушка красива и, что самое прекрасное, она красива абсолютно неожиданной красотой и оттого интересна и вызывает вполне понятное желание ее изучить, познакомившись поближе. Герман никогда не относился к робкому десятку, тем более что проживание на его жилплощади эгоистичного персидского кота давно породило в нем навязчивую мечту встретить ту, которая могла бы заменить Настю, а Настя все еще была для него больной темой. С ее уходом он примирился, но с пустотой, возникшей рядом, примириться не смог, и часто по ночам Гера рассказывал коту о своих вожделениях, а кот, которого Гера из чувства мужской солидарности не стал лишать радостей жизни, делал вид, что внимательно слушает, а сам украдкой стрелял глазами, намереваясь слинять на улицу в поисках этих самых радостей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу