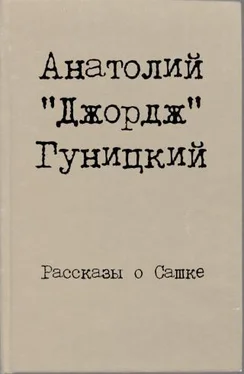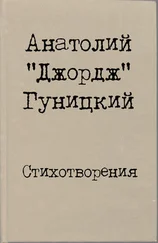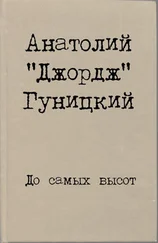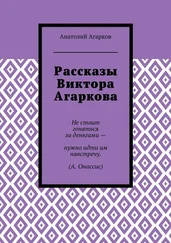Кривые, сбитые, отёчные, помятые лица.
Таких большинство. Может быть, это только кажется?
Всё равно ведь, всё равно, миллиард миллионов раз всё равно, большинство лиц какие-то не такие, – они заторможенные, они заглушённые, они загруженные, перекошенные, погашенные, искривившиеся, сшибленные, искривлённые, задавленные они тяжестью обычных, обыденных, рядовых, каждодневных, никому не нужных, важных, важнейших, идиотических, отвратительных, унылых, вялых, тоскливых, первостепенных, мнимых, несуществующих дел, дел – нелепостей. Спят они, эти лица, спят.
Один музыкант роковый даже песню про такие лица написал, в которой – в песне той, в песне в этой, в песне старой, в песне старинной, в песне дореволюционной, – такие строчки были: «Наши лица умерли, важное событие». Справедливости для следует – нужно – нельзя не отметить – логично заметить, что сама по себе эта песня была совсем – вовсе – ничуть – не то, чтобы ах или супер; так себе, песня как песня, не песеннее других песен – прочих песен – остальных песен – иных песен, но эти слова, эти строчки, эти бесхитростные конгломераты гласных и согласных, запятых, и прочих знаков препинаков, стоили многого.
Да, вот так вот получилось, вот так вот сложилось.
Вот так вот бывает, иногда так бывает, пусть и нечасто, но всё же бывает.
Лица, лица, лица, лица – и разные, и одинаковые, и похожие, и непохожие.
Лица умирающие. Лица мёртвые. Лица спящие. Лица кривые.
Лица сбитые, отечные и помятые.
Да, конечно, – да, бесспорно, – да, точно, – да, безусловно, – да, естественно, – да, само собой, – да, да, да; лица – они вот такие, они всегда такие, и все они разные, и все они в чём-то одинаковые.
И не похожие друг на друга, и похожие.
Сашка, который умер совсем молодым, был лицом своим и похож немножко, и всё же ничуть не похож на брата своего старшего, на Володю
Или на генерала «Твою Мать».
Или на мало, на почти даже никак нереализованного в бытийном полотне своем, покойного дознавателя Якобсена.
Или на коврового Ромку.
Или на Петра Семёновича-Сергеевича.
И на медсестру Дельфию уж точно не был Сашка похож. Не был, не был на элегантную и крупную, на одутловато-изящную Дельфию похож Сашка, который умер совсем молодым.
Тот, который однажды сладко, грубо и сочно, и жадно, и грубо изнасиловал её, Дельфию, на задней площадке трамвая.
Донельзя – до отвала – до крышки – до предела – до одури забитого трамвая .
А сие в час пик приключилось, – произошло, – вышло, – место имело, – когда многие people либо на работу ползли, либо отползали с работы.
Только следует – только нелишне – только полезно – только недурственно – только уместно ввиду иметь, что потом, позже, после трамвайного соития, – после изнасилования трамвайного, – после грубых и зверских фрикций на полу трамвайном, – после интротранспортного насилия над Дельфией, Сашка, который потом умер совсем молодым, читал ей либо по телефону, либо воочию, в изустном контакте, Ауэрбаха, Горвела, Дюма, Ибсена, Джойса, Кафку, Дюрренматта, Р.Ф. Шентера, и целовал руки сквозь варежки, и чем-то там таким вкусным однажды – как-то – пару – тройку раз – даже угощал.
Да, всё так, всё в полный самый рост так, только всё же не был Сашка и на Дельфию похож, – с её строгой, суховатой, приветливо неопределённой, казённо-светской улыбкой медицинского работника среднего звена, и с узким, тесным, скучным, немного стерильным лбом, и с зоркими, почти птичьими, с внимательными и с бесцветными глазами.
И в фас, и в профиль, и как угодно, и ничем, и никак не походил он на медсестру из банка.
Ещё у него, у Сашки – вот немаловажное, значительное, важнейшее, принциальное, квазисущественнейшее обстоятельство, – всегда была плохо выбрита левая щека. Правая-то щека у Сашки ещё туда-сюда была выбрита, умело и мастерски выскоблена чугунной витебской бритвою – нормально, классно, недурственно, качественно, почти ништяк, суперски, круто, а вот левая – плохо, скверно, отвратительно, мерзостно, гадостно, рвотно, и вечно на ней, на щеке на левой, торчали в разные стороны штук пять-семь рыжеватых волосков.
Да, именно рыжих! – хотя Сашка, который умер совсем молодым, был, скорее, светлым, блондинистым шатеном, а уж ни капельки не рыжим. Нос же у Сашки отличался необычной кривоватой прямизной, причём чуть-чуть в левую сторону и вверх. Тогда как у Володи, у брата Сашкиного, нос был круглым, вдавленным, коротким, будто бы немного обрубленным топором – шашкой – кинжалом – саблей – мечом жестокосердной Мойры, и придавившим ещё был Володин нос его же собственные короткие, густые и мятые усы. Володя и Сашка вообще-то мало походили друг на друга. Да, мало. Да, совсем немного. Так, посмотришь как-нибудь на них, на Сашку с Володей со стороны, случайно как бы вроде, так и не скажешь никогда и ни за что, будто бы они братья, нет, скорее уж покажется, что вовсе-то они даже и не братья никакие. У Володи, например, наблюдались иногда в лицевой части головы, в верхне-средней головной части, и таинственная полузагадочность, и загадочная псевдотаинственность, и скрытная значительность, и тайная незначительная скрытность, и даже очевидная интеллектуальная расплывчатость – или некоторая морально-этическая размытость, и жёсткая самоубеждённость неизвестно в чём или определённая расплывчатая определённость острых и частично – фрагментарных – обрывочных – рваных – эпизодических, немного притуплённо-изысканных чувствований, которая возникала – эта самая определённая неопределённость! – где-то в недрах кожных складок и усыпанных, бархатной, жемчужной перхотью, массивных бровей, и из-за этого всего казалось порой, будто бы он, Володя, предпочитает мрачные, таинственно-магические и медитативно-мистические жизненные вибрации, и при этом даже ещё далеко и ох, ох, ох как и не чужд, изощрённым и витиеватым, и извилистым, и духовным поискам в сфере поэтической.
Читать дальше