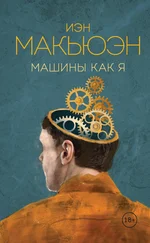— Как я понимаю, ты хотела, чтобы он умер. И сейчас…
— Ах, Джон! — вскрикивает она.
— Так натяни свою решимость, как что-то там на что-то. И у нас получится.
— Мы… сделали… ужасную вещь, — говорит она, не замечая, что забыла о своей непричастности.
— У обыкновенных людей не хватило бы смелости сделать то, что мы сделали. И вот еще одна. «Лутон геральд энд пост». «Вчера утром…»
— Не надо! Прошу тебя.
— Ладно, ладно. Да то же самое.
Теперь она негодует.
— Пишут: «мертвого мужчину», для них он ничто. Просто слова. Отстукали на компьютере. Не представляют себе, что это значит.
— Но они правы. Я как раз знаю. Каждую минуту в мире умирают сто пять человек. Почти два в секунду. Это, чтобы ты себе представляла.
Две секунды пауза, пока она осмысляет сказанное. Потом начинает смеяться — против воли, невесело, смех переходит в рыдания, — и она наконец выдавливает:
— Я тебя ненавижу.
Он подошел к ней, взял за плечо и шепчет в ухо:
— Ненавидишь? Не возбуждай меня опять.
Но уже возбудила. Сквозь слезы, под его поцелуями просит:
— Нет. Клод. Пожалуйста.
Не отворачивается и не отталкивает его. А его пальцы у меня под головой шевелятся.
— Нет… нет, — шепчет она, придвигаясь к нему. — Не надо.
Горе и секс? Могу только теоретизировать.
Оборона слаба, мягкие ткани становятся мягче, эмоциональная упругость сменяется детской доверчивостью, солоновато капитулирует. Надеюсь никогда такого не испытать.
Он подтянул ее к кровати, снял с нее сандалии, легкое летнее платье и опять назвал мышкой, но только раз. Укладывает ее на спину. У согласия свои шероховатости. Дает ли его скорбящая женщина, когда приподнимает ягодицы, чтобы с нее стянули трусики? Я бы сказал — нет. Она повернулась на бок — единственная ее инициатива. Я тем временем обдумываю план, мое последнее отчаянное средство. Последний шанс.
Он на коленях около нее, вероятно, голый. Самое время — что может быть хуже? Он не задерживается с ответом: миссионерская позиция, на этой стадии беременности — серьезный медицинский риск. Тихо скомандовав — как он околдовывает! — он поворачивает ее на спину, тыльными сторонами рук деловито раздвигает ей ноги и приготовляется — так сообщает мне матрас — навалить себя на меня.
Мой план? Клод буровится ко мне, и мне нельзя мешкать. Мы качаемся, поскрипываем под тяжелым грузом. У меня в ушах пронзительный электронный вой, глаза выкатываются с резью. Мне надо пустить в ход руки, ладони, но нет свободного места. Быстро скажу: я намерен убить себя. Смерть младенца, фактическое убийство в результате безответственного овладения женщиной на третьем триместре беременности. Его арест, суд, тюремное заключение. Смерть моего отца наполовину отомщена. Наполовину, потому что в гуманной Британии убийц не вешают. Я дам Клоду предметный урок по искусству негативного альтруизма. Чтоб жизнь свою отнять — смертельная петля из пуповины, три раза вокруг шеи моей бренной оболочки. Слышу издали вздохи матери. Миф о самоубийстве отца вдохновит меня на попытку собственного. Жизнь подражает искусству. Быть мертворожденным — идиллический термин, очищенный от трагического — есть в этом какой-то простой соблазн. Вот глухой стук мне в череп. Клод набирает скорость, уже галопом, хрипло дышит. Мой мир сотрясается, но петля на месте, держу обеими руками. Сильно тяну вниз, выгнув спину, с усердием звонаря. Как просто. Коварным пережатием сонной артерии, канала жизни, любимой мишени головорезов. Могу это сделать. Туже! Головокружительно валюсь куда-то, звук становится вкусом, осязаемое — звуком. Наползает чернота, чернее всего, что я видел, мать прощается со мной шепотом.
Но, конечно, убить мозг — это убить волю. Как только начинаю угасать, слабеют, разжимаются руки, и жизнь возвращается. И сразу слышны звуки активной жизни, словно за стенкой дешевой гостиницы. Потом громче, громче. Это мать. И понеслась по спирали к очередной опасной кульминации.
А для меня стена слишком высока, и я валюсь на свой тюремный прогулочный двор немого существования.
Наконец Клод убирает свою отвратную тушу — приветствую его грубую краткость, — мое пространство восстановлено, хотя в ногах еще покалывает. Прихожу в себя, а Труди лежит, вялая от изнеможения и обычных сожалений.
* * *
Не парков с аттракционами Paradiso и Inferno страшусь я больше всего — не райских полетов и не адских толп, — и обиду вечного забвения мог бы пережить. И пусть не знаю даже, что из этого мне выпадет. Страшно же вообще все упустить. Здоровое это желание или просто жадность — я хочу сперва пожить, получить мне положенное, мой бесконечно малый ломтик бесконечного времени, свой надежный шанс на сознательную жизнь. Мне положена горстка десятилетий, чтобы попытать счастья на привольно летящей планете. Прокачусь по-человечески, не по вертикальной стене. Хочу туда. Хочу стать. Другими словами, есть книга, которую хочу прочесть, она еще не выпущена, еще не написана; но начало ей положено. Я хочу дочитать до конца «Мою историю двадцать первого века». Хочу быть там, на последней странице, восьмидесяти лет с небольшим, стареньким, но бодрым, и сплясать джигу вечером 31 декабря 2099 года.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


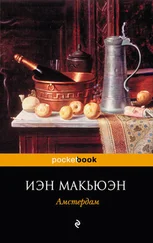







![Иэн Макьюэн - Таракан [litres]](/books/435106/ien-makyuen-tarakan-litres-thumb.webp)