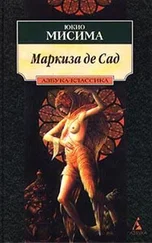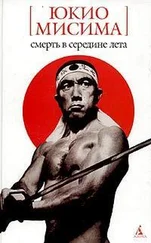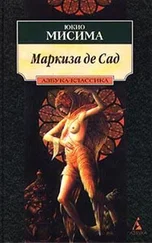Это зрелище напугало меня – встреча с жизнью реальной всегда действовала на меня подобным образом. Я смотрел на руки Кусано с инстинктивным ужасом: эти беспощадные пальцы норовили проникнуть в самую мою душу, чтобы обвинить и покарать меня. Я боялся, что от них ничего не утаишь, лицедейство здесь не поможет. И тут существование Соноко обрело новый смысл – оно должно было стать латами и кольчугой моей хрупкой совести, уберечь ее от этих безжалостных рук. Я сказал себе: ты просто обязан ее полюбить, во что бы то ни стало. Это чувство проникло в самую глубину моей души и укоренилось там еще прочнее, чем ощущение стыда и греховности происходящего…
Не подозревающий о моих терзаниях Кусано весело сказал:
– Теперь в бане и мочалки не надо – намыливай ладонь да три.
Его мать жалобно вздохнула. Рядом с ней я поневоле чувствовал себя бесцеремонным чужаком, вторгающимся в жизнь семьи. Поймав на себе взгляд Соноко – без сомнения, брошенный ненароком, – я виновато опустил голову. Мне почему-то захотелось попросить прощения – сам не знаю за что.
– Пойдемте-ка наружу, – предложил Кусано, смущенно и грубовато подтолкнув мать и бабушку к выходу.
На высохшей траве плаца группками расположились курсанты с приехавшими родственниками и друзьями. Все ели и пили. Как я ни пытался обнаружить в этой картине что-то значительное и красивое, у меня ничего не вышло. Мы тоже сели вокруг Кусано. Уплетая за обе щеки сласти, он замычал и глазами показал мне в сторону Токио. Училище располагалось на холме, за ним раскинулись мертвые поля, дальше – равнина, на которой темнели дома города М., а еще дальше сходились две невысокие горные гряды. Где-то в той стороне, под навесом холодных и темных мартовских туч, находился Токио.
– Там вчера ночью все небо было красное. Прямо кошмар! – дожевав, сказал Кусано. – Надеюсь, с твоими все в порядке, а? Ужас что творилось – такой бомбежки еще не бывало.
Говорил один Кусано, остальные молчали. С очень значительным видом он сказал матери и бабушке, чтобы они немедленно эвакуировались из Токио, иначе он от беспокойства за них спать по ночам не сможет.
– Хорошо-хорошо, – успокоила его бабушка. – Обещаю тебе, что мы немедленно оттуда уедем.
Она извлекла из-за пояса кимоно блокнот, серебряный карандашик размером с зубочистку и с решительным видом начала что-то писать.
На обратном пути все сидели в вагоне хмурые и печальные. Даже господин Оба, с которым мы встретились на станции, рта не раскрывал. Всеми владело чувство, обычно таящееся в глубине сердца, – любовь к близкому человеку или, как еще говорят, «к своей плоти и крови». Ехавшие со мной в поезде встретились кто с сыном, кто с братом, кто с внуком, и это свидание вывернуло наружу все то, что обычно остается сокрытым. Но взаимное обнажение друг перед другом своего сердца лишь привело к показному, бессмысленному кровотечению души. Меня же все еще преследовало видение многострадальных рук Кусано.
Уже наступили сумерки, когда мы наконец приехали на вокзал, где должны были пересесть на электричку.
И тут перед нашими взорами предстали последствия вчерашней бомбежки. Пешеходный мостик над железнодорожными путями был весь заставлен носилками с ранеными. Они лежали, закутанные в одеяла, и пустым, ничего не выражающим взглядом смотрели куда-то в пространство. Я видел женщину, с мерностью маятника качавшую на руках тельце ребенка. Еще помню девушку, которая спала, положив голову на плетеный короб; в волосах у нее были обгоревшие искусственные цветы.
Мы шли по мостику целые и здоровые, но никто не бросал на нас обвиняющих взглядов. На нас вообще не смотрели. Тут никто ни с кем не разговаривал. Мы не существовали для этих людей, были для них какими-то бесплотными тенями, ибо беда обошла нас стороной.
Я почувствовал, как в моей душе разгорается огонь. Эта выставка несчастий вселила в меня мужество, сделала сильным. Я испытывал тот подъем, то возбуждение, которые становятся причиной революций.
На глазах у этих людей пламя сожрало все, что составляло смысл их жизни. Человеческие отношения, любовь, ненависть, рациональность, имущество – все сгорело в огне. И, пытаясь погасить, уничтожить пожар, люди истребляли не пламя, а человеческие отношения, любовь, ненависть, рациональность и, разумеется, имущество. Подобно матросам тонущего корабля, которые обретают право убивать своих товарищей, чтобы самим занять место в шлюпке. Человек, погибший, спасая из огня свою возлюбленную, убит вовсе не пожаром – он убит той, которую любил. И мать, сгоревшая в пламени, чтобы жил ее сын, уничтожена не пламенем: ее убийца – собственный ребенок. В той отчаянной схватке сцепились все исходные, абсолютные истины человеческого существования.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу