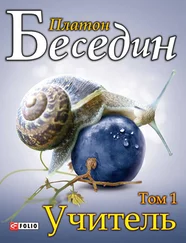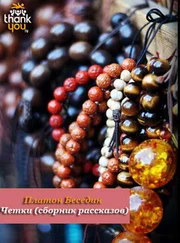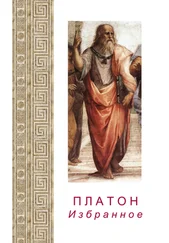Глотни, показывает мужик, не бойся. Да уж, как тут без боязни? Когда такая ночь, такая квартирка, такой жилец. И такой я. Пей, пей, не бойся!
И я решаюсь. Смрадное пойло скребёт горло, но свою миссию исполняет, принося нутру тепло, сухость. А теперь, настаивает мужик, – ноги. Что ноги? Он тычет пальцами то в мои носки, то в дурно пахнущую банку. Давай, давай! Что, что он хочет? Тепло! А, точно – растереть спиртом ноги!
Уже без раздумий, отхлебнув ещё, надеясь, что пищевое отравление не столь опасно, как пневмония, стягиваю носки. На бледных ногах остаются синеватые разводы от грязной ткани. Плеснув тёмной мути, растираю ею ноги, сперва не чувствуя ничего, но постепенно кровь отвоёвывает меня у ледяного забвения.
Мужик мычит удовлетворённо. Похоже, я начинаю различать эмоциональную окраску издаваемых им звуков. Становится теплее, спасительнее, радостнее. Появляется чувство чего-то значительного, исполненного, бьющего, как собаку по носу, пустоту бытия. Если бы ещё не жжение на щеке. И одно только осталось – позвонить. А после – мчать домой.
– Где телефон? – как обычно я подкрепляю бессмысленные слова чуть более конструктивными жестами.
Мужик не понимает. Тычет в банку и на меня. Отстраняя его, пахнущего под стать тёмной мути, выхожу в коридор. Нахожу дисковый телефон на накренившейся деревянной полочке, прибитой к засаленной стене. Снимаю трубку, брезгуя прикладывать её к уху, оставляя воздушный зазор, но слышу лишь короткие гудки. Хотя телефонный провод в порядке, воткнут в нужный разъём. Нет-нет, машет последовавший за мной мужик.
– Не работает?
Вопрос мой риторический.
– Надо позвонить в «скорую», милицию! Или – как там её? – полицию!
В ответ мужик начинает жестикулировать особенно бурно. Возможно – только сейчас в мой тугодумный, подвисающий мозг заваливается эта догадка, – он, как многие глухонемые, умеет читать по губам. Надо просто артикулировать чётче, тщательнее.
– Мы должны, – произношу едва ли не по слогам, – вызвать «скорую помощь». Ладно, без полиции, но «скорую» надо! У вас, – я для верности показываю на него, – разбита голова. Это серьёзно.
Он машет руками, сопротивляясь. Торопливо уходит на кухню. Возвращается с банкой. Трясёт ею, бултыхая мутной жидкостью.
– Что, выпить?
Мужик кивает, отхлёбывает. Зазывает на кухню. Из дальней комнаты мяукают кошки.
«Беда не в том, что мы пьём, а в том, что не поднимаем пьяных». Помню, Антон Павлович, помню. Но ведь часто беда ещё и в том, кого мы поднимаем.
– Нет, нет, – отмахиваюсь я, – мне надо идти…
Мужик кислеет, сваливается в тоску. Судя по квелой обстановке, он, скорее всего, одинок. Возможно, его мучает неотступное желание выпить, отыскав собутыльника.
– Да, да, мне надо идти… простите…
Уже не так уверенно говорю я, не слишком понимая, куда и как идти. Нет ботинок. Носки валяются в кухне. От босых ног прёт спиртягой и, возможно, чабрецом с грецким орехом. Нет денег, нет телефона.
– Извините, меня ждут, простите. – Хотя надо бы объясниться. – Я видел, что вам плохо: вы лежали там, у парапета, с разбитой головой. Я думал, что… ну, в общем, я искал помощь, а тут эти долбаные кавказцы и какие-то странные, дикие люди, точно всем похер, – я давно уже забыл о чёткой артикуляции, – и всё пошло не так. Без ботинок, без денег…
Делаю характерный жест пальцами, точно не слишком усердно добываю огонь. Мужик отхлёбывает из банки, кивает. Идёт в комнату, зовёт меня за собой. Но я не хочу, не могу двигаться. Весь прожитый день: поездки в автобусах, начитанные лолиты, пыльные кипарисы, кошачий корм на закуску, гонор и уязвимость писателя, человек-сфинкс, странные рисунки – вся суматоха дня придавливает меня монолитной плитой, на которой предприимчивые ребята уже выбивают даты.
Нужен сон, нужна передышка. И никаких прогулок, никаких людей рядом. Только растворившаяся во мне (и я в ней) тишина. Чтобы любимые вещи на теле, чтобы правильные слова в голове.
Мужик выходит из комнаты, отталкивая ногой кошек, вид у него словно у азартного охотника, только что завалившего кабана: довольный, гордый. Лицо, скуластое, острое, как въевшимися страданиями покрытое глубокими морщинами, перестаёт быть как у мумии – теперь человеческое влито в него, и глаза смотрят со смыслом и даже нежностью. В цвета свежей глины руках мужик держит пёстрые шерстяные носки. Кладёт их на телефонную полку, а рядом – несколько мятых купюр. Показывает: это тебе.
Не пересчитывая, беру деньги, сую в карман, натягиваю носки. Шерсть, обычно досадно раздражающая кожу, теперь приятна: она согревает, возвращает к жизни. И для пущего эффекта я еложу ногами по вспучившемуся линолеуму.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу