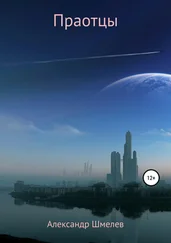Он всегда просто думал. И эти чувствуют также просто: надои принимай.
Они прошли к клиросу налево.
У открытого окна в решетке, за которыми видны чугунные плиты Зараменских, стояла прямая, высокая старуха, с изжелта-восковым лицом, в черном шелковом платье и в кружевной наколке. Молодой полковник узнал ее: все та же, как и тогда, когда кадетиком подходил к руке, а она без улыбки говорила, трепя по щечке: «Глаза-то… аквамаринчики!»
Священник поминал в алтаре болярина, – воина Михаила… – «о немэто…» – подумал молодой полковник о ротмистре, еёмуже, – болярина, воина Константина, Игоря… Старуха опустилась на колени. «Это о ее внуках молятся…» – подумал полковник, – новопреставленного болярина, воина Павла…» Старый полковник тяжело опустился на колени. «О Паше…» – подумал молодой полковник и начал рассеянно креститься. «…за Веру, Царя и Отечество на брани живот свой положивших…» Потом – рабов Божиих, воинов, воинов, воинов… Церковь томительно вздыхала. [232]
Перед «Иже Херувимы» в толпе зашевелились. Пробежал озабоченный Куманьков, шипел:
– Ее сиятельство!… Ослобоните проход, недосягаемо! За платьице-то лапищами не щупайте… ду-ры!…
Пятясь и пригибаясь, он выбрался к простору, пошел накорточках и похлопал рукой по коврику:
– Соизвольте сюды, ваше сиятельство… на мя-кенькое ступаните-с… – вышептывал он, словно подманивал.
Старуха повела наколкой. Он поклонился ее спине.
Шла княгиня в черном, в серебристо-прозрачной шали, свесившейся углом с левой ее руки в перчатке, в белой широкой шляпе, с черным страусовым пером. Замкнутая спокойная, строго-изящная, « неотразимая», – с первого взгляда понял растерявшийся вдруг полковник. Ударило ему остро в ноги, до жгучей боли – в отрезанную ступню. Он увидел незабываемое лицо, в изумительно тонких линиях, – непроницаемое лицо, матово-белое, как тончайший, сквозной фарфор. Увидал милую родинку на шее, бывшую и тогда… всегда… изумительного изгиба шею – прелестный, волнующий сердце стебель живого неведомого цветка, возносивший чудесную головку… локоны, чуть приметные, чуть прикрывающие ушки… жемчужные сережки, трепетные у шеи, покойный, холодный профиль… розовый, нежный рот, который он целовал когда-то, уже не детский, в тонком, неизъяснимо-томном изгибе грусти, недоумения, вопроса… Он любовался в очаровании стройной ее фигурой, угадывая плечи, локти, изгибы кисти, – ласкал глазами, не сознавая – где он?… Острым, тревожным взглядом уловил он под шляпой [233] поразившие его когда-то, еще в детстве – удержанный памятью удивительный разрез ее глаз, – нежащий, томный и угрожающий, от которого шло лучами. Уловил все очарование ее движений, устало-томных, сдержанно-скромных, полных укрытой ласки, скрытого в ней… чего-то, что называется… женственным… – что встречается редко-редко, что ведет за собой неотразимо.
Он уже ничего не слышал, прислонился к стене, взирал. Она потянула утомленно серебристую сквозную шаль, опустила ее с плеча, и шаль заструилась к талии. Он увидал теперь всю прелестную ее шею, сияющую над чернотой корсажа. Справа, из купола, влился луч, искрой зажег жемчужину, розовым тронул ушко, скользнул на шею, по серебристой шали, – осиял всю ее, траурно-жемчужную, – выбрал одну из всех.
Он взирал на нее, благоговея, смутный.
«Клэ… необычайная… прелестная… Клэ!…» – радостный и подавленный, мысленно шептал он. – «Ты была где-то… Клэ…»
И вдруг – уронил костыль. Его оглушило громом. На одной ноге, другая, в пустом сапоге, туго набитом тряпками – едва прикасаясь к полу, полковник быстро нагнулся за костылем, в смятеньи. Едва уловимый миг – княгиня повела шеей. И в этот, едва уловимый, миг поймал полковник блеснувший, золотисто-игривый взгляд, блеск «сухого шампанского» – топаза, который он помнил сердцем, – незабываемый. Этот миг-взгляд сладко поранил сердце, самую глубину его… – вызвал восторг и боль. [234]
«Княгиня!…» – отозвалось в нем с силой. Он почувствовал, как он связан, и как несчастен, и как безумно счастлив… как никогда еще не был счастлив… что счастья он и не знал еще, что получил в этом взгляде что-то, безмерное, что теперь он безмерно сильный, и жизнь еще будет, будет… и он принимает все, какие бы ни были страданья!
«Клэ… чудная Клэ… Княгиня!…» – говорил он взглядом ее сережкам, склоненной ее головке, бледной ее щеке.
Его охватило страхом. Хотелось уйти – не смел. Стыдился себя, такого, с этими палками, на пустой ноге. Увидал белый крестик, вспомнил, что у него удивительные глаза, «как ночное небо», – так ему говорили женщины, – что она тоже женщина, целовала его когда-то, и он называл ее просто – Клэ… что она свободна, теперь война, люди – пустая пыль, что нет теперь ничего, чего бы нельзябыло, что нужно же такслучиться…
Читать дальше