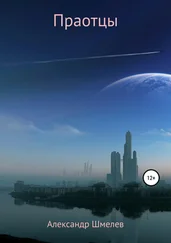– Ва-ше превосходительство!… здоровьице ваше как? Здравствуйте, Степан Александрыч… – узнал он молодого полковника. – Поправились, слава Богу. Да какие же вы красавцы стали!… [228]
Полковник остановил Алешку и справился, в церкви ли старая княгиня.
– А как же-с, праздник у нас. За княгинюшкой ворочаюсь, еще неготовы были с бабушкой ехать…
Молодой полковник нервно оправил крестик.
– А как война-то у нас, Степан Александрыч? Ну, дай Бог. Эх, Гурку бы нам теперь со Скобелевым… Го-оре, ей Богу… молодцы такие – и на костылях!
Кучер был из солдат, – почетный, княжеский. Устроил его сюда полковник, как приехал сады садить.
На выгоне стояла карусель, палатки с ярморочным товарцем, телеги косников и серпников, лари с картинками… Пахло оладьями и пирогами с луком. Сияли гармоники, яркие платки и ситцы, опояски и кушаки: под кумачевым подзором висели сапоги и полсапожки, с лаковыми подметками, словно повыше где-то сидели невидимые мужики и бабы, свесив ноги. Народу было жидко, – мальчишки больше, свиставшие в глиняные свистульки, в оловяные петушки. Подростки, – в синих рубахах с желтыми опоясками, пробовали гармоньи, в кучках. За оградой церкви сбились телеги с распряженными лошадками, с ворохами лесной травы. В ограде сидели молодухи, завернув юбки и раскинув ноги в ушастых полсапожках, в цветных шерстяных чулках, давали младенцам грудь, – поджидали, когда причащать кликнут. Девки щелкали семячки. Над кучкой степенных мужиков покачивался солдат, с залепленным черной заплаткой глазом. Когда полковники вылезали, он лихо крикнул:
– Смирнаааа… рравнение направаааа!… [229]
– Молодец, Скворец! – сказал старый полковник, признав солдата из Птичьих Двориков. – Рано только ты больно, обедня еще идет.
– Так точно, ра-на… ваше превосходительство, а то бы ни в одном глазе! – ломался солдат перед народом. – Степан Александрыч! как же нам теперь с вами жениться-то? Девок сила, а… не хотят кривого, а то хоромого… Давай, говорят, прямого!…
Мужики и молодухи хохотали. Одна, чернобровенькая, румяная, в васильковом платье, помнившая молодого полковника, как трясли вместе яблоки, пожеманилась шеей и плечами:
– За хорошеньким да афицериком любая побежит!
Полковника задержал старик Копытыч, набивался в караульщики по садам. Молодой распрашивал солдата. Они были погодки, играли вместе. Солдат-гвардеец напоминал тонкими чертами Ниду, – и быстрые карие глаза те же!
– А что сестренка?
– Э, теперь Степанидку и не узнаете, то в белошвейках была, а нонче в хору поет, ахтер голос у ней признал! Семь комнатов квартира, на Садовой, за Сухаревкой, в семнадцатом номере, на пятом этажу… машина подымает! И цветы, и портреты ее по всей квартире. Две тыщимне обещается, кожами вот хочу заняться. Фабрикант один кожаный в женихи набивается. В ванной у нее купался и всякие вина-ликеры пил. По-мню, как вы за ней гоняли… я ей раз, вот, ей-Богу, косы за вас надрал!… Вот рада-то вам будет, что земляки… – болтал и болтал Скворец. – Проведайте, обязательно. Ей теперь наплевать, без страху… и [230] какавой угостит! Спрашивала об вас… Для такого героя она… Сам ей письмо пошлю, как в газетах про вас известно… Поезжайте, не сумлевайтесь!…
Полковник вспомнил красавицу-блондинку, встречу в Москве, письмецо ее – «а будет грустно – приезжайте, Степочка… размыкаем.» Так и не повидались после. Подумал: «поехать в Москву, проветриться!…»
– Солдаток к нам сторожить приехал, чтобы не бастовали… – смеялись мужики солдату.
– Чего мне солдаток… свою фабрику завожу!
Вертелся лавочник Куманьков, расталкивал:
– Пускайте!… его превосходительство с раненым гироем! Вот народ недостижимый какой… Пу-скай-те!… Ленька? Ленька мой, ваше превосходительство, слава Богу… покелева с палками гоняют-учуть… возлагаю на Господа да на ваше слово… при себе запишите, как поедете воевать… как зеницу ока, недосягаемо! Под крылосик, ваше превосходительство, к окошечку-с… очень духоты напущено, кислоты-с… Там и их сиятельство-с изволит молиться за нас грешных… для параду к им-с…
Воняя луком и миндальным мылом, Куманьков расталкивал стариков и баб. Красные волосы его взмокли и растрепались, но он старался. Бабы жалели молодого на костылях и шептались: «Воители-то наши… молоденький какой, а хрестов-то навоевал!…» Старухи шамкали: «Сюды, родимый… к стеночке-то пристань, ловчее тебе будет, с палочками-то…» Шептали – слышал старый полковник – и про убитого его Пашу. Кругом вздыхали. У каждого было свое, болевшее. Он почувствовал, как жжет у него в глазах. Смаргивая [231] слезу, он оглядывал небогатый храм, родную ему толпу, с которой его связала общая скорбь и горе. Давно связало, – через Бурая-пращура, помилованного Петром стрельца… раньше! Белый крестик, выбоина в бедре, шрам на шее, ноющая под сердцем пулька, могила сына в Смоленске… – все через эту связь, ради чего-то, к чему движется общая с этим жизнь его. Дано– и не раздумывай, принимай.
Читать дальше