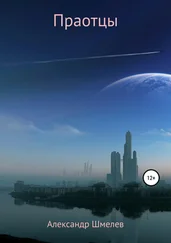– Куда это, Степанчик, на дождь-то глядя… не к нам ли? – остановил солдата Кожин. – Или в Олехово? Там сегодня жарко, ишь как раздирает! А, прогуляться… Что же это нас-то позабыл, носа не кажешь?
– Так все как-то, господин подполковник…
– О-чень понимаю, братец. Слыхал, понятно. А часто вспоминали: пропал Буравчик. И все-таки напрасно, стесняться-то. Какое кому дело! И Антонина, и все соскучились. Антонина моя… – моргнул подполковник, – поняла мою идею!…
– Какую? – не разобрал Бураев.
– Усадьбу отвоевать у банка. Старается. Начала давать уроки музыки, трудится вовсю. Все-таки цель жизни! О-чень будет рада. Теперь-тоуж чего же, стесняться-то… никаких условностей, в сущности, для нас и не было, но… я понимал, конечно. Эх, молодежь… закрутит голову!… Давай слово: назад поедешь – завернешь. В гости еще? Плюнь. Так-то, братик. И поговорим, – батальонный кивнул к солдату, – про разные истории. Покажу тебе цыплят, [130] плимуты… у Зальцы против моих ни к чорту. От графа Шереметева! Приказываю: мимо не проезжать! Угощу вишневкой. Пошел. Вон и палаццо… не забыл?
– Что вы, господин подполковник! И сам соскучился, ей-богу.
– Некогда скучать-то было, знаю вашу братью.
Бураев пропустил пролетку, поехал шагом. У заставы пролетка завернула к полю, и до Бураев донесся гулкий удар из сада, такой знакомый. Он любил бывать в усадьбе: так по родному! Подумал: какая стала Антонина?… Вот и случай: поехал на «свиданье». Вот – свиданье.
Все говорили: ну какой военный, «Дон-Кихот», быть бы ему помещиком. И верно. Батальонный арендовал чудесную усадьбу, с фруктовым садом десятины на три, с старым дворянским домом, принадлежавшую когда-то знаменитым в губернии дворянам Пронским, а ныне – банку. Дом был очень ветхий – «старое гнездо», видал французов. Кожин его поправил, и стало сносно. Были у него породистые куры, которых он посылал на выставки; были молочные коровы, «от Верещагина», он ставил молоко больницам; были, особого откорма, будто на солдатском хлебе, «кожинские свиньи», – всех, сколько ни доставь, все забирала московская колбасная Белова, – только дай.
– Говорят, с садами плачут. Вра-нье! Делай все первый сорт, – бывало, объяснял Бураеву подполковник, – и в кармане деньги. Рота у тебя первый сорт, и сам ты первый сорт? Спи спокойно – и корпусной не страшен. И в хозяйстве то же. Сад освежил, сволоту выкурил, – яблочко стало чистое. Еду к самому [131] Эйнему – желаете? Эйнемский мармелад известный! Немцы, тут уж не изловчишься. Удивились: солидный офицер и… яблоки! Дал им на образец пудиков с десяток, сварили. Телеграмма: три тысячи пудов! В-вот-с.
Антонина всегда молчала когда подполковник восторгался. Она вставала и тихо уходила.
– Нет денег? Правда. Значит, бу-дут. Через пять лет, одного меду тысячи на три буду… Арендую у семинарии пол-сад, дело намазу. Его преосвященству маслице мое по вкусу. Артоса мне прислал, три фунта! Недавно осиял визитом. Лестно им: штаб-офицер и… их помазки, староста церковный… все-таки благодать имею! Ну, сливок посылаю для пломбиров… простокваши. Буду с садом! Поелику, говорит, вы такой хозяин, значит, и командир благоразумный!…
Бураев бывал не из любви к хозяйству.
Это началось тому лет семь. Он вернулся с Дальнего Востока. В его отсутствие в полк прибыл новый батальонный, перешел в провинцию – «из-за хозяйства». Бураев ему представился в первый же день приезда и получил нежданно приглашение: «ко мне обедать!» Он явился. Странно: никого не приглашал к себе подполковник. Денщик сказал, что барин играют с барышней в саду, с ними и барыня, и там и кушать будут. Бураев пошел искать по саду. Сад огромный. Барыню он представлял подстать подполковнику: костлявой, длинной, лет за сорок; батальонному – за пятьдесят, пожалуй. Интересовался: барышня какая? И увидал ее… Она стояла с крокетным молотком, на солнце. Он остановился. Это было в мае, в разлив цветенья. Среди цветущих яблонь, она представилась ему «виденьем», [132] – «перламутровым виденьем». Вся – в озарении цветущих яблонь. Такой он вспоминал ее всегда. Он совершенно растерялся, снял фуражку. Она кивнула. Он спросил, в восторге: – Простите… ваш папа здесь, в саду?…» Словом, он страшно растерялся. Как она смеялась! Смех ее был прелестный, свежий, необыкновенный. Он только помнил, как качался молоточек, как все сияло. Она сказала – голос был грудной и сочный: «Подполковник сейчас придет. Он с нашей девочкой червей снимает. А пока… вот мама!» – сказала она очаровательно. Бураев готов был провалиться. Что-то бормотал – «простите… толко что приехал…» Она очаровательно простила, усадила в кресло, – он чуть не повалился с креслом. Она сказала: – «Да, мама… вот этой баловницы, нашей детки-Нетки…» – нежно притянула к себе девчушку лет восьми. Подошел подполковник. Смеялись, и Бураев совсем освоился. Этот «комплимент» не забывался. За шахматами, когда зевал Бураев, батальонный напоминал: «капитан, известно… комплиментщик!»
Читать дальше