Мы вернулись в дом. За время нашего отсутствия пришла подруга Мадлен со своим мужем Шарлем.
Все уселись за стол. Прислуги я не заметила. Может быть, прислуга все приготовила и ушла.
Подавали куропаток, подстреленных утром в собственном лесу.
Охотилась, естественно, не Мадлен, для этого в штате прислуги был специальный человек. Среди сопутствующих блюд я запомнила пюре из шпината и лук-порей. Должно быть, то и другое — очень полезно для здоровья.
Яблочный пирог принесла подруга по имени Франсуаза. У нее синие глаза с желтой серединой, как цветок фиалки. Она работает акушеркой в родильном доме, очень веселая, круглолицая и все время ждет, что ей скажут: «Ой, какие у вас интересные глаза». И ей все говорят.
Я думала, что миллионерши дружат только с миллионершами, а оказывается, они дружат с кем хотят.
Шарль говорил больше всех, я ничего у него не понимала. Я даже не могла установить темы его монолога. И это странно. У Мориса я понимала все, а у Шарля — ни слова. Значит, наши силовые линии шли в разных направлениях. Это был не мой человек.
Франсуаза хихикала, но присутствия или отсутствия ума я не заметила. Франсуаза одинаково могла оказаться и умной, и дурой. Такая внешность может обслуживать и первое, и второе.
Морис и Мадлен не смотрели друг на друга и не общались. Я догадалась: Морис не скрывает своей любви к Этиопе и не хочет притворяться. У Мадлен в этой связи есть две возможности: принять все как есть и смириться, сохранив статус жены миллионера. И делать вид, что ничего не происходит. И второе: бунтовать, протестовать, выяснять отношения, драться за свое счастье до крови.
Мадлен выбрала третье: покинула общую территорию, уехала на дачу и тихо возненавидела.
За обедом она иногда вскидывала свои ненавидящие глаза, бросала фразу, должно быть, хамскую. Морис также коротко огрызался. Не чувствовал себя виноватым. Он — хозяин своей жизни. И его чувства — это его чувства.
После пирога все подошли к камину. Камин был выложен из какого-то дикого камня, как будто высечен из горы.
Возле камина — маленькая дверь в стене, как в каморке у папы Карло. Морис открыл эту дверь, и я увидела высокий кованый стеллаж, на котором были сложены березовые поленья. Поленья сложены не как попало, а рисунком. Кто-то их выкладывал. Наверное, для этого существовал специальный человек.
Я посмотрела на аккуратные чурочки, и у меня потекли слезы.
В это время Морис перенес дрова в камин и поджег. Пламя быстро и рьяно охватило поленницу. Значит, дрова были сухие.
Я смотрела на огонь. Слезы текли независимо от меня. Может быть, мне стало жалко чемодана? А может быть, я оплакивала свою жизнь — жизнь Золушки, не попавшей на бал. Морис и Мадлен ругаются, выясняются, а за стеной, выложенные буквой «М», лежат и сохнут березовые чурки. Они даже пропадают на фоне бескрайней территории, бирюзового бассейна и кремовых роз. И пюре из шпината.
Я плакала весьма скромно, но мои слезы были восприняты как грубая бестактность. Меня пригласили, оказали честь, накормили изысканной едой, а я себе позволяю.
Плакать — невежливо. Если у тебя проблемы — иди к психоаналитику, плати семьдесят долларов, и пусть он занимается тобой за деньги.
Если бы я заплакала в русском доме, меня бы окружили, стали расспрашивать, сочувствовать, давать советы. Обрадовались бы возможности СО-участия. Все оказались бы при деле, и каждый нужен каждому.
А здесь — все по-другому. Морис нахмурился и отвернулся к огню. Мадлен отошла, ее как бы отозвали хлопоты гостеприимной хозяйки. Шарль и Франсуаза сделали вид, что ничего не произошло. Ну совсем ничего. Шарль разглагольствовал, Франсуаза поводила плечами, сияя фиалковым взором.
И я тоже сделала вид, что ничего не произошло. Я слизнула низкие слезы языком, а высокие вытерла ладошкой. И улыбалась огню. И Морису. И готова была ответить на все вопросы, связанные с моей страной. Да, перестройка. Революция, о которой так долго говорили большевики, отменяется. И теперь мы пойдем другим путем. «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим». И у нас будут свои миллионеры, свои камины, и мы будем смотреть на живой огонь. Но когда при нас кто-то заплачет, мы не отвернемся, а кинемся на чужую боль, как на амбразуру.
Морис стал поглядывать на часы. К Этиопе, Этиопе… Его тянуло к двадцатипятилетнему телу, страстным крикам и шепотам. На стороне Мадлен были тридцать лет семейной жизни. А на стороне Этиопы — отсутствие этих тридцати лет. Все сначала. Все внове, как будто только вчера родился на свет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
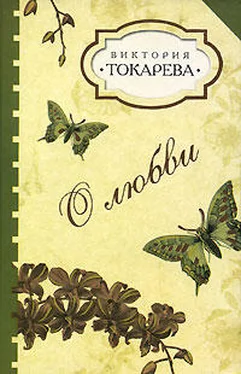










![Виктория Токарева - Дом за поселком - Рассказы и очерк [сборник]](/books/423258/viktoriya-tokareva-dom-za-poselkom-rasskazy-i-ocher-thumb.webp)
