— Во-первых, — сказал он, — я никогда ничего не одалживал у Илии Шварцбойма. Да и не стал бы одалживать у него. Премерзкий человек. Жалкий еврейский спекулянт землей да сараями. Во-вторых, я уже говорил вам по крайней мере дважды, что я все верну, когда у меня будут деньги. Если у меня будут деньги. И откуда бы у меня взяться деньгам? А у этого Илии денег-то поболее, чем волосин в ноздрях. Вообще-то я пришел сюда затем, чтобы при вашем посредничестве попросить у него небольшую ссуду, всего-то пять тысяч лир, которые я верну через три месяца. Передайте ему, что я и проценты готов заплатить. Ростовщические проценты.
— Сначала давайте обсудим предыдущую ссуду, — сказала Аталия. — У нас есть свидетельница. Эстер Леви. Вы ее не помните, но она была с вами здесь, в кафе “Атара”, два года назад, когда Илия передал вам деньги наличными. Эстер Леви станет свидетельствовать против вас, если вы предстанете перед судом. А мы ваше дело передадим в суд.
— А ты, — поэт внезапно обратился к Шмуэлю, — что ты сидишь и молчишь? Похоже, собираешься выступить вторым свидетелем против меня? Два свидетеля и никакого риска, да? Но ведь ты социалист. Или уже нет? Когда-то был социалистом в духе Кастро. Так давай-ка объясни нам, пожалуйста, где тут справедливость и почему нищий поэт должен финансировать такого презренного упыря, как Илия Шварцбойм?
Официант вернулся с коньяком для Хирама Нехуштана и черным кофе для Аталии и Шмуэля. Между чашками он поставил маленький кувшинчик с молоком. А затем спросил, можно ли предложить им яблочный пирог с кремом? Или сладкий тертый пирог? Или шоколадный торт, тоже с кремом?
Аталия вежливо отклонила все три предложения, поблагодарила официанта и сказала:
— Эстер Леви не пришла. Но в суд мы, несомненно, ее доставим. Эстер рассказала, что родители оставили вам в наследство однокомнатную квартиру в подвальном помещении, которое находится в переулке за кинотеатром “Эдисон”. Эту квартиру вы называете “моя нора”. Вы ведь вряд ли хотите, чтобы суд отобрал у вас это жилье. Куда вам податься?
Хирам Нехуштан положил горящую сигарету в пепельницу, забыл ее там, закурил новую и прорычал:
— Куда мне податься? Куда? Да ко всем чертям! Я уже давно на пути ко всем чертям. И проделал бо́льшую часть пути. Я уже почти там. — Он резко вскочил: — Хватит. Хватит с меня. Я ухожу. Прямо в эту секунду возьму и уйду. Не хочу больше сидеть с вами. Вы жестокие люди. Жестокость — это проклятие человечества, дамы и господа. Мы изгнаны из рая не из-за какого-то яблока, к чертям все яблоки, кого вообще они волнуют — одним яблоком больше, одним меньше, — из рая нас изгнали не из-за этого дурацкого яблока, нет, мы оттуда изгнаны только из-за жестокости. И поныне мы гонимы беспрерывно с места на место только по причине жестокости. Вы, двое, передайте вашему гнусному подрядчику, что его деньги вернутся к нему с процентами, даже с процентами на проценты, получит он в семьдесят семь раз больше, полные мешки получит, набитые златом и банкнотами, прольется на него дождь наличных, но все это он получит не от меня. Вернут ему богатеи, а не тот, чьи руки пусты. И, между прочим, я тоже человек жестокий. Не стану отрицать этого. Я человек жестокий и мелочный, честолюбец, гонимый с места на место. Лишний человек. Абсолютно. Но три тысячи лир! Илия Шварцбойм! Да ведь три тысячи лир этот гад ползучий может запросто дать в качестве чаевых какому-нибудь чистильщику обуви. А у меня не найдется даже три лиры, чтобы заплатить за этот вонючий коньяк. И я ухожу, ибо человек чувствительный не должен пребывать хотя бы одно лишнее мгновение в обществе людей злых и жестоких. А ты, — обратился он неожиданно к Шмуэлю и снова разразился блудливым хохотом, — ты меня послушай. Самое лучшее для тебя — остерегаться ее. А если ты, случаем, влюблен в нее, то пусть Бог смилостивится над душой твоей. Меня-то он уже позабыл. И все вы тоже, будьте любезны, забудьте обо мне в эту же минуту. Забудьте раз и навсегда, и кончено с этим.
И, не попрощавшись, он устремился к выходу; спотыкливо спустился по лестнице. Аталия и Шмуэль сверху наблюдали, как он ищет свою одежду среди пальто и курток на вешалке у входа и наконец извлекает рваный макинтош, принадлежавший, по-видимому, когда-то английскому солдату. Натянув плащ, поэт взмахом руки поприветствовал портрет президента Израиля Ицхака Бен-Цви и, пошатываясь, вывалился в промозглые иерусалимские сумерки.
Шмуэль и Аталия продолжали сидеть перед пустыми чашками и после того, как поэт удалился восвояси. Поговорили о Еврейском университете на горе Скопус, о том, что после войны некоторые университетские здания стали недоступными. Шмуэль помнил, что где-то через час ему заступать на свою вахту в библиотеке, где его будет ждать Гершом Валд. Надо бы сказать об этом Аталии. Не тянуть. Но что именно сказать? Шмуэль улыбнулся растерянно, глядя на ее руки, покойно лежащие на столе, сухие, в темных пятнышках, словно руки были намного старше самой Аталии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





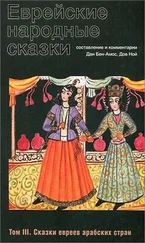
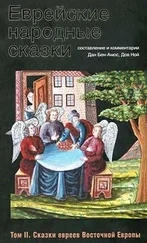


Начинала читать с трудом, путаясь в именах, от непонимания чего хочет главный герой по имени Шмуэль.
А он и сам, наполненный внутренней и внешней экспрессией, был в поиске, в неопределённости от настоящего и будущего...
Увлёк творческий язык автора, наполненный в описании той же стремительной экспрессией: в описании внешнего и внутреннего содержания героев, бытийных сцен, живописного исполнения всего, к чему ему необходимо прикоснуться по замыслу.