— Аталия? Вдова?
— И даже в тебе, мой дорогой, не будет у них никакой надобности, даже тени надобности после того, как осуществится наконец-то великая революция. Ибо что им за дело до Иисуса глазами евреев? Что за дело до всевозможных мечтателей, подобных Иисусу? Или подобных тебе? Что им до еврейского вопроса и вообще до всех вопросов, существующих в этом мире? Ведь они, в сущности, сами — ответ на все вопросы, окончательный восклицательный знак! И я говорю тебе, мой дорогой, пожалуйста, послушай. Если мне предстоит тысячу раз выбирать между нашим страданием, твоими, моими и всеобщими нашими вековыми муками, — и между вашими спасениями и избавлениями или вообще всеми спасениями и избавлениями в мире, я предпочитаю, чтобы оставили нам всю боль и сожаление, а себе пусть оставят исправление мира, являющееся всегда в компании с резней, крестовыми походами или с джихадом, с ГУЛАГом или с битвами Гога и Магога. А сейчас, друг мой, сейчас, с твоего позволения, мы проделаем над тобой небольшой эксперимент: мы обратимся к тебе с тремя просьбами — закрыть поплотнее жалюзи, добавить керосин в обогреватель, приготовить нам обоим еще по стакану чая. Попросим и понаблюдаем за судьбой этих трех пожеланий.
Ночью, погасив свет и свернувшись под одеялом на кровати, он видел на стене отблески молний, слышал раскаты грома и удары дождя, железными цепями громыхавшего по черепичной крыше над самой его головой, и поскольку кровать его стояла под самым скатом, то, вытянув руку, он мог коснуться наклонного потолка, и подушечки его пальцев и бушующие стихии окажутся разделенными какими-то четырьмя-пятью сантиметрами штукатурки и черепицы.
Холод, ветер и дождь, бушевавшие в такой близости, нагоняли тяжелый сон, но каждые полчаса-час он просыпался, разбуженный почудившимся скрипом двери внизу или шорохом шагов во дворе. И он бросался к окну, настороженный, словно грабитель, и пытался высмотреть сквозь щели жалюзи, не она ли выходит из дома в ночь. Или, наоборот, возвращается и запирает за собой дверь. Одна? Или не одна?
Подобное предположение ввергало Шмуэля в слепой гнев, смешанный с жалостью к себе и с некоторой долей горькой неприязни к ней. Она и ее секреты. Она и ее игры в таинственность. Она и чужие мужчины, которые, возможно, шастают здесь, приходят и уходят ветреными дождливыми ночами. Или не приходят, но она сама, крадучись, выходит к ним?
Но разве она должна тебе? Неужели только потому, что ты вывалил на нее удручающие байки о своих разочарованиях, о том, как тебя бросили, о всяких идеологических глупостях, она обязана в ответ изложить тебе историю своей жизни и подробности своих связей? С какой стати? Что ты можешь предложить ей и какое ты имеешь право ожидать от нее чего-либо, кроме зарплаты да кухонного и постирочного распорядка, о которых вы договорились в день твоего прибытия сюда?
С этим он возвращался в постель, снова сворачивался под одеялом, вслушивался в дождь или в глубокую тишину в паузах дождя, засыпал ненадолго, просыпался в отчаянии или в гневе, зажигал свет у изголовья, прочитывал четыре-пять страниц, не понимая написанного, гасил свет, переворачивался на другой бок, боролся с муками вожделения в темноте, включал свет, садился, слушал рев ночного мотоцикла, мчавшегося безлюдными переулками, исходил яростной ненавистью к ней и немного — к ее избалованному старику, вставал, расхаживал по комнате, садился к шаткому письменному столу или устраивался на каменном подоконнике, словно воочию видел ее, медленно снимающую сапоги и чулки, платье слегка приподнято, линия икр белеет из темноты, а глаза саркастически смеются: “Да? Прости? Ты что-то хочешь? Что тебе понадобилось на этот раз? Немного тяготит одиночество? Или раскаяние?” И он снова мчался к окну, к двери, к углу, служившему ему кухней, наливал полстакана дешевой водки, вливал в себя одним махом, словно омерзительное лекарство, возвращался в постель, проклинал свое вожделение и ироническую улыбку Аталии, ненавидя зеленоватую искорку в ее дразнящих карих глазах, столь уверенных в своей власти, ненавидя ее темные волосы, спускающиеся на левую грудь, ее босые ноги, ее белеющие перед ним коленки, каждую в отдельности ненавидя. И снова дождь стучал по черепице прямо над его пылающим в лихорадке телом, и ветер глумился над верхушками кипарисов перед его окном, и Шмуэль выплескивал вожделение в ладонь, и тотчас же его заливала мутная волна стыда и омерзения, и он клялся оставить этот дом, этого безумного старика и эту вдовую женщину, а уж действительно ли вдову, так безжалостно издевающуюся над ним. Уже завтра или послезавтра он оставит их. Или самое позднее — в начале следующей недели.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





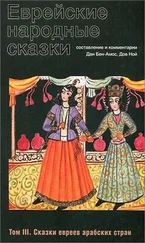
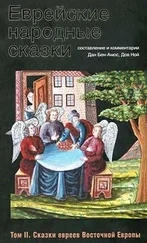


Начинала читать с трудом, путаясь в именах, от непонимания чего хочет главный герой по имени Шмуэль.
А он и сам, наполненный внутренней и внешней экспрессией, был в поиске, в неопределённости от настоящего и будущего...
Увлёк творческий язык автора, наполненный в описании той же стремительной экспрессией: в описании внешнего и внутреннего содержания героев, бытийных сцен, живописного исполнения всего, к чему ему необходимо прикоснуться по замыслу.