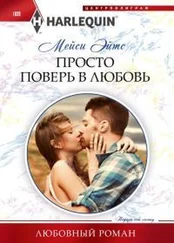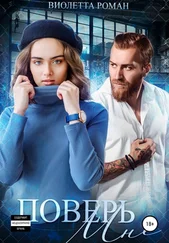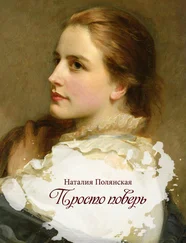Вернувшись домой в Яремчу, Гриня зарабатывал инструктором по туризму, водил нас с женой по самым красивым маршрутам, бесплатно включал в автобусные туры по Карпатам — в Ворохту с участком старинной транскарпатской магистрали и желдормостом, построенным в начале века австрияками для выкачивания ресурсов из колонизуемого края, в высокогорную Верховину на берегах Черного Черемоша, куда можно добраться только по головокружительно петляющей «серпантинке» через самый высокий Кривопильский перевал.
В Верховине и ее окрестностях Сергей Параджанов снимал свой фильм — ответственные за натуру хлеб не даром ели. Несколько месяцев режиссер не мог приступить к работе — не хватало какой-то искры. Съемки закипели только тогда, когда он переселился из гостиницы в простую гуцульскую хату, стал есть простые крестьянские блюда, спать на обычной деревянной лаве и общаться с жителями, многие из которых вошли в массовку. Отец Параджанова был антикваром и владельцем публичного дома до революции, сын унаследовал бисексуальность и знал толк в старых вещах. Со всей округи в его хату гуцулы несли предметы старины, «бранзулетки» и мониста, дидусеви медали времен двуединой монархии Франца Иосифа и бабцины платья, все скупалось за символические деньги, а потом раздаривалось или продавалось.
В своем фильме Параджанов создал уникальный киноязык, единственное в своем роде сочетание цвета, музыки, пластики, слова. Как мог этот тбилисский армянин так почувствовать карпаторусскую бытийную теплоту, мягкость и нежность характеров, мечтательность, уступчивость их душ, мольфарство и ведовство языческого мира, замешанного на сказке, предании, наивной вере в силу магического ритуала, слова, молитвы, мешающейся с лесным лешачьим наговором, суеверием, тайной?
И пусть у него там малые голландцы на каждом шагу разыгрывают свои интермедии, а брейгелевские охотники оживают на снегу и начинают жить самостоятельной жизнью карпаторуссов, в этом его великая правота — крестьяне всего мира одинаковы.
Каждая мизансцена, каждый кадр рождался на коленке, кино не снимают — кино делают вот так, покадрово, переиначивая сценарий в угоду случайной краске, детали, образу. Массовка из местных жителей привнесла дыхание подлинности, музыку народного говора, причитаний, песен, несрежиссированной жизни, извлеченные из скрынь наряды пахли тленом и историей, а пленка уже в момент съемки покрывалась патиной времени, как на полотнах старинных мастеров.
Яремча — курорт, где всего понемногу — и гор, и речек горных, и водопад Пробий.
Как-то пошли с женой в горы и заблудились, долго блуждали, пока не вышли в незнакомом месте. На опушке дивчинка с хворостиной пасла корову, напевала тоненько: « Я доярка молода, звуть мэнэ Маричка… ». Личико восковое, бледное, льняные волосы, маричка в сорочке-вышиванке, ноги веревочками, коленки узелками, мы стояли с женой в ельнике тихо-тихо, стараясь ничем не выдать себя, дыхание затаив от нежности, дослушивая песенку до конца, и еще несколько, весь репертуар певуньи, долго потом вспоминали эту гуцулочку из карпатского села. Карпаты — исконная, затаенная прародина славянства, по словам Ивана Бунина, а уж он-то понимал толк в славянстве.
Однажды Гриня прибежал к нам в хату — вечером в клубе «Тени»! И мы пошли на «Тени», которые жена не видела. «Тени» надо смотреть в Карпатах — в Яремче, в Верховине, в Косове, в Коломые. Прийти за час до начала сеанса и смотреть, как собирается зал — любопытствующая молодежь, сельская интеллигенция, нарядившаяся по такому случаю в вышиванки и кептари, дидуси и бабци, — из разных уголков села на фильм сползались, опираясь на клюки, выбирались из закутов такие замшелые старики и старухи, что становилось ясно: это их последний парад, для многих из них. Заговорившая, запевшая, запричитавшая массовка гуцульская в фильме — одна из находок режиссера, может быть, его главнейшая удача.
Жена смотрела неотрывно, улыбка блуждала на губах, я ревниво следил за ее реакцией, надувался гордостью, словно был режиссером фильма, да я и был им — режиссером, ведь это я привез ее в горы, показал свои любимые места, это я решал каждый день и час — что будем делать и куда пойдем, на фильм привел ее тоже я. Вот-вот, вот сейчас будет мой любимый гуцульский танец, гениально снятый в три плана, дальний, средний и ближний, говорил я:
https://www.youtube.com/watch?v=V56Z2rVhqJE
В финале на сцене смерти и прощания с Иваном-Миколайчуком (удивительным актером, равного которому не было и нет, со смертью его украинство утеряло что-то неуловимое, теплое, вечное, часть себя в этой вечности) жена расплакалась. Оконный проем в хате, в которой отпевают Ивана, поделен переплетом на четыре, на восемь частей, в каждой маячит личико ребенка, детские головы прилипли к стеклу, следя за церемонией, на которую детей не зовут, — таинством отпевания умершего человека; с высоты своей начавшейся жизни дети заглядывали в колодец конца, уже все зная про него, оторвавшись от своей жизни, заглядывались на смерть; потом у нее в рассказе прочту про эти детские головки, всплывающие из небытия и прилипающие к стеклу ночному, заглядывая в окошко к папе с мамой, — пустят их к теплу, огню, свету или и дальше блуждать неузнанными тенями, призраками будущих жизней, — жизней, которые могли бы сложиться, если б взрослые захотели?..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

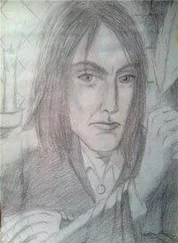


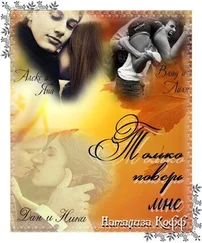
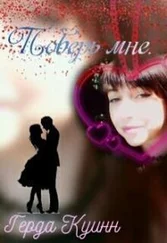
![Виолетта Роман - Поверь мне [СИ]](/books/432777/violetta-roman-pover-mne-si-thumb.webp)