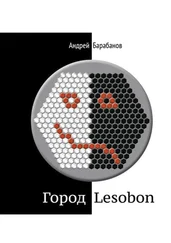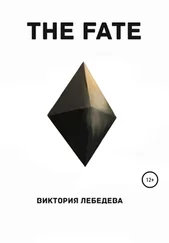Подружки говорили — дура, иностранца ищи. А Наташка и рада бы, но никак не подворачивался. Пришлось возвращаться домой… а все потому, думала Татьяна Александровна, что слишком лепилась к мужикам, своей головой думать не умела. Вот и оказалась у разбитого корыта, в Военграде, и про обе столицы говорила теперь: «зажрались». Только шуба и осталась на память.
Татьяна Александровна приняла Наташку. Вместе было как-то полегче. И сама-то она по молодости свалилась отцу, как снег на голову. Но тогда были другие времена — простые и понятные. Всего и было у Тани проблем — как-то ужиться с буфетчицей. Таня старалась все делать ей назло — но это машинально; буфетчица была добрая женщина и совсем безобидная. Все Танино раздражение, накопившееся за годы брака, обрушилось на нее. А папа даже не заступился. Собрали вещи и съехали. У буфетчицы была комната в общежитии, она ее задешево командировочным сдавала. Вот, им отказали, заселились сами.
Конечно, она была не чета маме. Простецкая, малограмотная. Говорила «масла» — она. Говорила «тубаретка», «полувер». Книг не читала. Но зато умела обживаться где угодно, создавая вокруг пространство, полное тепла и уюта. Таня это умом-то понимала, а ссорилась — не могла остановиться.
Зажили с Наташкой в родительской двушке. Таня устроилась на завод, но работала больше по общественной части. Она и правда много делала: доставала ордера и путевки, устраивала санкурлечение и пионерский лагерь, ни крошки не пытаясь отщипнуть себе от профсоюзного пирога. К ней шли жаловаться и просить. И, как честный человек, она оказалась легкой добычей для тех, кто имел свою корысть.
Военград к тому времени сросся с райцентром, сделался городом-спутником. Завод был так велик, что от ворот пускали электричку, которая развозила работников по цехам. Танки, трактора, вагоны — все, что движется на гусеницах и по рельсам, производили тут. И вот все стало рушиться. Люди еще ликовали на площадях, праздновали свободу, воевали со старыми памятниками, давали новому миру беспорочные демократические имена, а лавина уже громыхала где-то на самом верху. Таня достаточно была близка к руководству, чтобы слышать ее гул, однако трактовала по-своему. Ей казалось, что не обрушение грядет, а скорейшее восстановление системы. «Дураки! — хотелось ей крикнуть. — Чему радуетесь? Какой такой свободе?!» Эйфория безответственности пугала. Она верила — это не сможет продолжаться долго, все вернется, и каждый пожалеет, что не умел вовремя притормозить. Но время шло, лавина катилась, порядок не восстанавливался. Сбесившиеся цены и фантики вместо денег, вместо еды — морская капуста да желтые куриные ноги, вместо военных заказов — фига с маслом. Да и гражданские не лучше — как-то было теперь не до тракторов, не до вагонов. Никто глазом не успел моргнуть, а все уж было разворовано.
Зарплату не платили, почти всех выкинули в бессрочный отпуск. Таня кинулась к одному, к другому, но, конечно, не нашла у тех, кому помогала годами, ни работы, ни даже денег в долг. Но это бы полбеды. Понимать бы, что происходит. Вот он — самый страшный страх смутных времен — непонимание. От него паника. От него бессилие.
Одна только Юля Галкина, старая школьная подружка, не оставила Таню. Эта тихая троечница неожиданно легко приспособилась. Еще в конце восьмидесятых она открыла в райцентре на вокзале кооператив. Ничего особенного — беляши да чебуреки. Таня ее осуждала. Звала одуматься и вернуться на завод, а не гоняться за длинным рублем. Но подруга Таню не послушала, а наоборот, расширила дело — обустроила несколько пластиковых столиков под зонтами и завела аппарат с мягким мороженым; зимой столики, а вместе с ними все нехитрое производство, переселились в подсобку, которая взята была в аренду у администрации вокзала. Сделали отдельный выход на первую платформу, поставили в пару к мороженице титан для кофе и чая — и забегаловка процветала. Даже когда перешли на фантики со многими нулями, кафе приносило стабильный доход — хоть и приходилось Юле кое с кем делиться. Она сильно делилась, ой, сильно. Однако не унывала. Не одна «крыша» поменялась с того дня, когда изжарен был первый чебурек, а непотопляемой Юле было все как с гуся вода. И «крыша» оставалась довольна, и на жизнь хватало.
Она до последнего не хотела к Юле Галкиной. Упрямо шла каждое утро на завод, где отсиживала положенные часы, едва оплачиваемые, а он разрушался, точно его поедали термиты, — каждый день что-то исчезало из остановившихся цехов, с замерших складов, только самое неподъемное оставалось облупляться и ржаветь. Поддавшись распаду, покрывался трещинами асфальт, перла сквозь них колючая трава, кусты стлались под ноги; взамен привычного механического гула летом истошно стрекотали цикады, зимою вороны переругивались — и ползла повсюду бурая ржавчина, будто проказа или стригущий лишай. Помещения поближе к проходной стали заселяться кустарями. Слева объявился автосервис, справа не то мебельщики, не то гробовщики. И точно в насмешку, в бывший отдел кадров — святая святых — въехал цех по пошиву нижнего белья.
Читать дальше