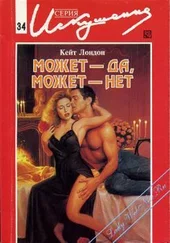Все это я должен был сказать, чтобы кратко описать реноме Сильво и его подлинную сущность. Он был на очень плохом счету. И его плохая репутация во многом была оправданна. Но было много и такого, что ему из предубеждения приписали.
Расследование доказало ему, что он с оружием в руках при помощи немецких полицейских преследовал своих земляков и участвовал в засадах на партизанские патрули, что повлекло за собой и жертвы. А на разбирательстве присутствовали люди, свидетельствовавшие, что видели его в окровавленных ботинках со шнурками, полными ссохшейся крови. В действительности же он, как избалованный ребенок с желанием модно одеваться, носил тогда еще редкие лыжные ботинки с красными шнурками, купленные в Италии. Поскольку он не стеснялся надзирателей, но с ним ничего особенного не случалось (из-за прогрессирующей болезни, которая, понятно, вела прямиком к смерти), он прослыл стукачом. Многие удивлялись, что я общаюсь с ним и что иногда даже беру его под защиту, тем более будучи бывшим партизаном (от чего я никогда не отрекался, выдержав немало боев с коллаборационистами, в том числе и в тюрьмах; не было ничего более ничтожного, чем «покорившиеся» в глазах сокамерников, — и среди всех этих бедолаг самыми ничтожными были прежние партизаны, теперь отрекшиеся от своего прошлого и политически побратавшиеся с некогда активными квислингами; для них столь же недостойными доверия были сокамерники левой ориентации, бывшие сотрудники оккупантов и администрация). Сильво (еще до перевоспитания) любил насмехаться над «лесной сволочью», которая только и делала, что бежала.
Потом я перед всеми объяснил ему, что есть существенная разница между войной на фронте между двумя армиями и гверильясами, или малой войной. Для гверильясов тактически верно атаковать более сильного противника (у которого численное превосходство, лучшее вооружение и еще тылы с подвозом всего необходимого — Nachschub [52] Снабжение (нем.).
) — лишь застав того врасплох, действовать быстро и вовремя уйти. Если оккупационные войска попадают в засаду — бей! Если отряд гверильясов попал в засаду, устроенную оккупантом, — беги! Я рассказал ему, что в 1944 настало такое время, когда командиры могли попасть под трибунал, если поднимали свои отряды в лобовые атаки. Вместе с тем расстреляли и командующего батальоном, который во время карательной операции распустил своих солдат, посоветовав им каждому пробиваться к своему дому. Это была не испанская гражданская война, когда солдаты лежали в окопах, а кто-нибудь, прислонив ружье к оборонительной стене, шел ненадолго к жене и уже наутро возвращался. У нас было: бей и беги, только не потеряйся. Домобранцы стали для нас опасны, когда начали изучать партизанскую тактику, но к этому они пришли только в последний год войны. Мне рассказали, что Сильво еще высмеивал «вшивых», бежавших так, «что у них юбка зада не касалась», но только в мое отсутствие, что означало, что мое влияние распространилось на него. Разумеется, я рассказал о том, что не было армии, не обовшивевшей во время войны, — и немецкие солдаты, бывшие на русском фронте, меня поддержали.
Потом долгими днями я находил подходящие моменты для военных воспоминаний. Я описал случай, как мы дьявольски «неслись» по пересеченной местности, называемой «цвирн», и как швабы нам «дали жару». В другой раз я выбрал драматичное событие: подобно «ремизу» — то три раза мы в деревню, то три раза швабы. В завершение я вспомнил, как мы в засаде «взгрели» швабов из пулеметных гнезд с правильного расстояния, так что снег был красным от крови, но я рассказал и то, как мы были удивлены — насколько быстро они нашлись и среагировали. (Впоследствии можно горько поплатиться, если принижать достоинства противника, поскольку тем самым ты умаляешь собственные успехи; враг может быть свинья, злодей и чудовище — глуповатым или трусливым он быть не должен; однако правдой остается и то, что в партизанах мы называли немцев «фрицами» и «швабами», — но если они появлялись неожиданно, я никогда не слышал другого возгласа, кроме «немцы!») Рассказы из военных воспоминаний заключенных, перепробовавших различных фронтов и служивших во всех армиях Второй мировой войны, никогда не должны быть — если заключенный не хочет осрамиться в глазах сокамерников — продолжением войны, но только бесстрастным и как можно более безличностным описанием.
Из-за любой вражды, любой идейной нетерпимости, любой приверженности, одним словом — из-за любого гражданского пристрастия — тает арестантское уважение. Если ты до смерти ненавидишь соседа — в тюрьме молчи об этом! Если уже не можешь укротить в себе вражду — ведь она сжигает тебя сильнее, чем холодный огонь решеток, — по крайней мере не показывай ее. Также любая страстная мировоззренческая приверженность в тюрьме вызывает желание противодействия, будь она религиозной, социалистической или прогитлеровской, клерикальной или информбюроевской, фашистской или троцкистской.
Читать дальше
![Витомил Зупан Левитан [Роман, а может, и нет] обложка книги](/books/32925/vitomil-zupan-levitan-roman-a-mozhet-i-net-cover.webp)